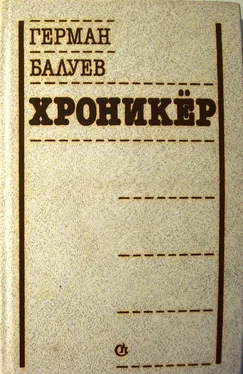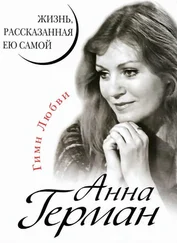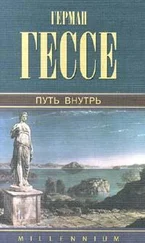А на следующий день на моих глазах с поста главного инженера был снят Веревкин. Видать, Поймалов, Драч и прочие заговорщики взвинтили его основательно.
— Сдаваться надо, Василий Павлович! — закричал он еще издали. — Давайте честно сообщим в пароходство, что подготовить флот к работе в Средиземном море мы не можем! — Веревкин остановился перед столом, за которым сидел Курулин, и сделал хохочущее лицо. Хотя и говорили все, что инженер Веревкин знающий, а человек честный и резкий, в самом его облике было что-то слишком уж ненадежное, самолюбивое, студенческое.
Курулин с прижатой к уху телефонной трубкой еще ниже склонил свое длинное худое лицо. Слава Грошев, бегавший за минеральной водой для Курулина, одеревенел лицом, со стуком поставил на стол минеральную и показал глазами в сторону котлована: дескать, пойду? Курулин шевельнул пальцами: стой!
Тут Курулина соединили, и он вновь насильственно преобразился — на этот раз, кажется, в сыгранного им некогда Несчастливцева. И опять это было точно, потому что в трубке рокотал благодушный бас Счастливцева, которому для полноты жизни просто нужен был достойный помощи и его, Счастливцева, наставлений, благородный, но невезучий Несчастливцев. Терпеливо выслушав наставления и получив как награду за это вожделенную хромированную сталь, Курулин сказал: «Река, милая! А теперь дай мне еще раз Москву». Он назвал номер, опустил взмокший лоб, и трубка свесилась в его руке.
Полдня он работал с телефоном, и это именно была изнуряющего напряжения и крайней мобилизации сил работа. Курулин как бы растворял в себе собеседника, заставлял, забыв о себе, ему, Курулину, напряженно сопереживать. Он терпеливо и ловко тянул его, как попавшуюся на крючок крупную рыбу. И в девяти случаях из десяти вытягивал — добивался успеха, настояв, упросив, доказав, утомив. Сам он ни в чье положение, естественно, не входил. Эта изнурительная, но плодотворная игра шла только в одни — в его ворота. Каждый звонок он делал как смертный. Вышибить ставку, заполучить плазменную сварку, электроды для подводных работ, настоять на премиально-прогрессивной оплате труда монтажников, строящих эллинг, вырвать для «Миража» экспериментальный, еще не пущенный в серию компрессор, — к любой из этих позиций он подступал с таким нажимом, что у объекта его воздействия наверняка, я думаю, возникала мысль, что наплевать в конце концов на компрессор, если у человека из-за этого компрессора так натянулась жизнь.
Курулин не любил конторы, и я еще не видел, чтобы он заходил туда. С тылу конторского голубого барака, рядом с будкой диспетчерской, под брезентовым белым тентом стоял крупный коричневый стол, с которого Курулин машинально сбрасывал то и дело падающие с трех нависших над диспетчерской и над его столом дубов осенние заскорузлые листья. Стол был пуст. На нем стоял лишь подключенный Славой Грошевым телефон. «Народ видит меня, а я вижу, чем занимается мой народ», — с усмешечкой объяснил мне свое сидение вне конторы Курулин. Перед его глазами была акватория наполненного белыми судами залива, поросший молодыми корявыми дубками перешеек, отделяющий залив от Волги, смазанно-белая, с косячками свободно пробегающей по ней ряби Волга, уходящая в свинцовую хмарь. Справа виднелась толстая плешивая гора Лобач со строящимся перед ней эллингом. А метрах в ста от стола под берегом стоял «Мираж», и там потрескивала, дымила и распускала павлиньи разводья сварка.
— Почти год работали на «Мираж», — подавшись вперед с протянутой в нашу сторону пустой ладошкой рыдающе-весело вскричал Веревкин. — Так чего ж вы хотите? Сменных узлов нет. Катастрофа! И вас предупреждали, что она неизбежна. Нам нечем ремонтировать флот! — Он с недоумением посмотрел на залив, где за последние сутки скопилось уже до двух десятков «Волго-Балтов», с недоумением посмотрел на меня и улыбнулся.
Я попробовал глазами директора посмотреть на тесный от судов залив, и мне стало не по себе. Громадного водоизмещения флот перед уходом в Средиземное море скапливался в этом заливе и ждал ремонта. Большинство судов было на зиму зафрахтовано иностранными фирмами, в основном фирмами ФРГ. И если правдой было то, о чем патетически говорил Веревкин (а у меня ни малейшего сомнения не было, что это правда), то спасения для Курулина быть не могло. Я не мог понять, на что он рассчитывал. Очевидно, просто, как страус, прятался от неизбежного, что было заложено год назад им же самим. Я уже понял, что, поставив перед собой цель, он ломит, ничего не видя по сторонам, вперед. А по сторонам-то ведь очень много. То, что по сторонам, ведь частенько больше и ценнее, чем цель. Впрочем, все это были домыслы. В натуре-то ничего от прячущего голову страуса не было в нем. Было какое-то веселое внутреннее бешенство, вот это было! Но эта внутренняя раскаленность, угловатость, нервность, скорее всего, была свойством вообще всех выходцев из старого затона. Сонных, флегматичных я что-то там не видал. И вот это-то опасное беспокойство и сейчас я ощущал в нем, в едком повороте его опущенного лица, в прищуре узко прорезанных и глубоко утопленных глаз, в прицеле которых оказался Веревкин. Курулинский взгляд был тем тяжел, что как бы разоблачал человека. Это был не пронизывающий, как принято говорить, взгляд, а именно разоблачающий. Испытывая, как и всякий другой, известное раздражение и неудобство, я тем не менее как бы заиливался без этого очищающего и ставящего меня на твердую почву взгляда. Он мне необходим был, как русскому человеку баня, после которой становишься бодр и свеж.
Читать дальше