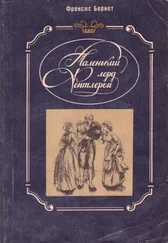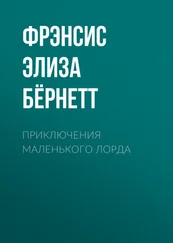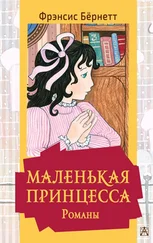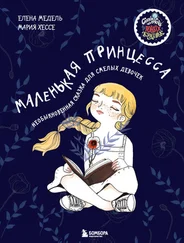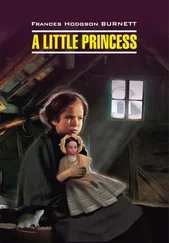Чтобы еще раз эту черту прочертить, расскажу две притчи. Одна из них — старая, и мы приведем самый уместный здесь вариант. Шли пять человек, их кто-то обидел; первый гордо презрел и обиду, и обидчика; второй ответил обидчику тем же (скажем, накричал); третий заплакал от боли; четвертый ничего не заметил, так как был отрешен и бесстрастен; пятый заплакал об обидчике. Другая притча — наверное, быль; ее рассказывает митрополит Антоний Блюм. Кто-то на улице увидел, что молодой человек совершенно спокойно терпит насмешки, даже издевательства прохожих и, зная по опыту, как это трудно, заинтересовался, каким же образом тому удалось достигнуть такого безгневия. Молодой человек ответил, примерно: «Буду я на них обращать внимание! Собака лает, ветер носит».
Поистине, чем такая гордыня, лучше сорваться в ответ — это очень плохо, а все же лучше. Но странность «мирского мировоззрения» в том, что детей не только учат «отвечать», им еще внушают, что заплакать от обиды — хуже всего. Делают это и верующие люди, подкрепляя свои доводы очень важной, но не очень уместной в данном случае правдой. Да, обида за себя — симптом себялюбия; не полного, глухого эгоизма, а той жалости к себе, которая идет из чрезвычайных глубин души, и побеждается только Божьей силой. Иногда, как в монашеской практике, почву для этой помощи готовят многолетний подвиг, долгая борьба, давно и прекрасно описанная в соответствующих книгах; иногда такая помощь дается даром; никогда не бывает она окончательной. Все равно ты в опасности, что на место человеческой ранимости придут «злейшие духи» превозношения, холода, гордыни. Но речь вообще может идти только о взрослых. У детей такого бесстрастия не бывает. Подавив б детстве жалость даже к себе, того и гляди убьешь в ребенке жалость к другим. Я говорю не о злой досаде и прочих симптомах могучего эгоизма, а о простой боли, от которой вполне естественно заплакать. Если же взрослые, борясь с ней, приводят не мирские доводы, а как бы духовные, ребенок, скорее всего, будет воспитывать в себе гордыню первого из тех пятерых, «собака лает». Собственно, в нем, не развившись, будут умирать чувства. Хуже того — они будут уходить в те неосознанные глубины, из которых потом выйдут чудищами амбиций и компенсаций. В том-то и трудность, неразрешимая на путях этических усилий и этических правил, что одновременно надо подшибить в ребенке эгоизм, как бы проколоть этот нарыв, и не тронуть той «любви к себе», без которой не полюбишь ближнего. К счастью убить «любовь к себе» в ребенке невозможно; но (уже — к огромному несчастью) очень легко исказить ее, убить в ней именно то, что убивать не надо, загнав в подсознание самое опасное. К «школьному возрасту» получается примерно то, о чем пишет К. С. Льюис: «На одного ученика, которого надо спасать от сентиментальности, приходится минимум три, которых надо спасать от бесчувственности /… / Голод по чувству надо чем-то насытить, а очерствение сердца не поможет против размягчения мозгов». Главу эту он так и называет «Человек Бесчувственный», а противопоставляет ему «Человека Благородного», из его трактата мы и взяли эпиграф.
Слава Богу, Сара — не из тех, кого надо спасать от бесчувственности. В ее сжавшемся, подмерзшем сердце остались жалость к Бекки и Анне, к индийскому джентльмену и к «маленьким зверькам», тяга к веселому уюту Большого Семейства. Кончить это «размышление» я хотела бы, однако, тем, что оказалось самым прочным для меня самой — сценой, когда нищая принцесса преображает свое убогое жилище. Наверное, такая способность, а главное — такое желание больше всего говорят об ее неумерших чувствах. Как ни играет она хозяйку замка и пира, в ней нет никакого высокомерия, а есть — одно из величайших сокровищ, которое нередко теряют после детства. Хуже того: далеко не все дети им обладают. Припомним, много ли мы знаем детей, вокруг которых становится уютнее и Красивей? Много ли мы знаем детей, которые не хнычут, чего им недодали, а благодарно радуются любому, даже такому жалобному благу? Может быть, эта сцена что-то перевернет в их сердце; а не эта — пусть хоть та, где комната и впрямь преображается. [15] Сцена эта, видимо, сохраняется в сердце у многих девочек. Одна американская актриса пишет, к примеру: «Маленькая Сара — замерзшая, усталая, голодная — взбирается к себе на чердак и видит, что он стал уютным пристанищем, где в камине потрескивает огонь, на столе стоит вкусный горячий ужин, и маленькая обезьянка, убежавшая от слуги-индуса, сидит и глядит на нее яркими бусинками глаз. Так представляю я себе побег на небо». (Она вспоминает не повесть, а пьесу, написанную по этой повести).
Чтобы радоваться так, как Сара, нужны благодарность и смирение, которые перевешивают всю ее вынужденную гордость. Наверное, именно они и делают ее не столько «сильной», сколько благородной в самом точном и полном смысле этого слова.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
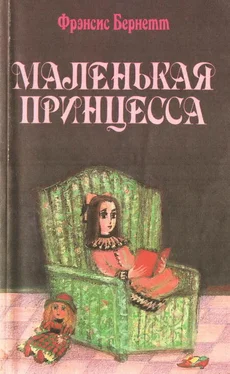

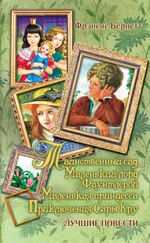
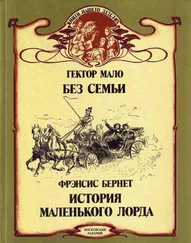
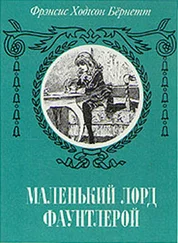

![Фрэнсис Бернетт - Как стать леди [litres]](/books/391855/frensis-bernett-kak-stat-ledi-litres-thumb.webp)