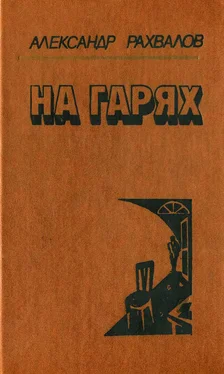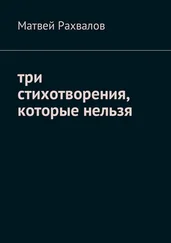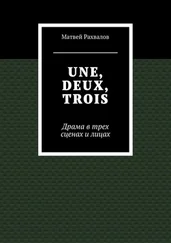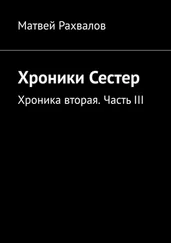Па-а родине-е,
как па-а смаро-ди-не,
иду — листом пахнет…
Идем? Значит, идем!
— Э! Ты дурака не валяй, — после некоторой растерянности проговорил Тихон. Он и водителю обрадовался, и машине, которую тот водил, и выхлопному газу, — всему, что наконец-то настигло его в этой проклятой пустыне. — Я уж затылок смозолил, ожидая тебя…
— Затылком, че ли? Ха-ха!
— Затылком!
Они расхохотались, напугав теленка: тот аж отскочил в сторону, едва не налетев на телеграфный столб и не разбив себе голову.
Теленка погрузили на машину.
— А я, брат, в Юмени выпил целую сотню сырых яиц, — начал водитель, когда они стронулись с места. — Пью и пью, пью и пью, мать твою за ногу, и не могу уж, но пью. Через силу.
— Зачем пьешь-то, если через силу? — удивился Тихон, не подозревая никакого подвоха.
— А ждал, когда вареное попадет. И ведь не попалось, как я ни старался его отловить.
Смех их даже сблизил. В кузове бился теленок.
— Бастует, как студент, — пояснил водитель. — Свой, сытый, потому прыткий такой. Я же отвожу доходяг, смирных… Их загрузят, а они аж по доскам стелются: не дай, мол, бог, передумают да обратно выгрузят — в коровнике голодуха… Зато на комбинате — один укол, и ты в раю. Коровушку, брат, не проведешь.
Он остановил машину — отправились смотреть теленка.
— Ха! Отец сердешный! — воскликнул он. — Да мы озверели! Ни хрена себе пассажирчик…
Теперь они оба уставились на теленка.
А теленок, ударившись в боковой борт, отлетел на середину кузова и замер, не справляясь с дрожащими ногами. Ноздри вывернулись, обнажив влажную красноту, глаза округлились, загривок ощетинился, как у фыркающего кота… Бычок косился на лепехи, присохшие к бортам, на солому, стертую копытами животных чуть ли не в порошок, и за всем этим ему виделась какая-то убийственная бездна, что могла и его, оказавшегося в кузове, поглотить, как она поглотила, наверное, не одного теленка. Он чувствовал, он слышал запах мочи, запах шерсти, на него веяло прелым дыханием тех животных, что кормились силосом и соломой, но кроме этих запахов в кузове не было ничего, как будто все провалилось сквозь пол, затоптанный копытами. Он принюхивался, дрожа всем телом, и боялся шагнуть к кабине — там он мог провалиться и исчезнуть, как исчезли коровы, которыми пропахли эти доски, эта солома, этот кузов-загончик. От всего веяло смертью, и он, может быть, видел, как повисли на тросах коровы, и кровь, хлынувшая из их глоток, окатила его… Перепуганный Тихон лаял, как собака, но теленок, наделенный высшим чутьем, смотрел в бездну, не подвластную человеческому разуму, и видел в ней свою погибель.
— Вязать, вязать его, чтоб не разбился, — повторял шофер, повисший, как и Тихон, на решетке. — Иначе мы его не довезем.
Но Тихон перебрался через нарощенный борт и прижал к животу голову теленка.
— А веревка-то у тебя имеется? — спросил он шофера. — Надо бы связать, а то разобьется — верно говоришь.
— Нету веревки, — ответил тот. — И шпагатика никакого нету, вот ведь черт…
— Как нету? — не поверил Тихон. — Коров-то, что ты отвез, на что-то же привязывали. Не так же просто везли…
— Я говорю тебе: они смирные были, — ответил шофер. — Я говорю, что они даже плясали тут от радости: газую — пляшут, но чуть сброшу обороты — могила… Боялись, что вспомню о них и наброшусь: чего пляшете? А ну-ка поедем назад — в коровник… Может, брючным ремнем стянуть его? Попробуем?
Но теленок прижался к Тихону и затих. Страшно было тревожить его. «Если даже свяжем, — подумалось ему, — то все равно он сбесится и разобьет башку о какой-нибудь угольник». Тогда он решил ехать в кузове вместе с теленком.
— Поступай, как знаешь, — обиделся водитель. — А мне поговорить с тобой хотелось.
Он хлопнул дверцей, и скотовозка, взревев и дернувшись, покатилась по мягкому асфальту.
Вскоре Тихон, намучившись в кузове, попросился в кабину.
— Едешь, значит, строиться, — переспросил шофер, когда они разговорились. — С хорошей бабой… А у тебя как, работящая?
— Жена хорошая… Благодаря ей… — Тихон не знал, как высказать похвалу супруге. Зато водитель не растерялся.
— Ну, это, товарищ ты мой, самое главное! Я имею в виду, — уточнил он, — в жизни. А то иных послушаешь — и волос дыбом, как на твоем теленке… Спрашивается, что за крик? Может, женсоветы возродились, а? Ничего не понять. Но я со своей ненаглядной прибрел на окраину деревни, и мы молчком начали строиться. Плакали молча и плясали молча, бывало, даже голодали… Кричать-то стали уж после, когда вторая дочка родилась. Дочки-то, они горластые… — распахнулся он настежь. — Она, баба моя, красивой была, но я подвернулся— на рубахе пятнадцать заплаток, а на заднице… Словом, в работе я и красивым стал, и одетым не хуже ее.
Читать дальше