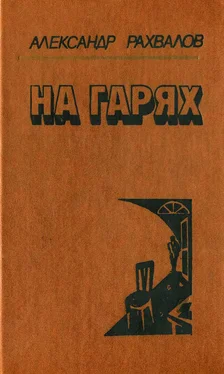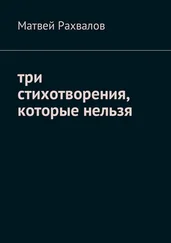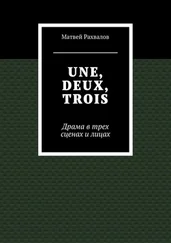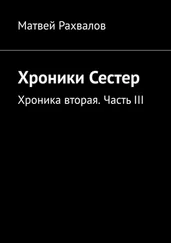Аркадий подошел к забору и попрыгал, тяжело топая, на месте, чтобы сбить грязь со своих болотных сапог. «Копец подкрался! — кивнул он Тихону. — Прохода не дают… Курицы роются в земле потому, что пищу себе находят, а эти… У меня нет больше слов». Тихон промолчал, но Клава порядком разозлилась: «Мужики! Да разве вы мужики? — напирала она. — Мужики пьют и закусывают крепко. Вы же отщипываете от краюхи и в нос тянете — будто табак нюхаете, а не закусываете вовсе. Нет, с вами все ясно». — «А с вами? — задирался Аркадий, но уже продвигаясь вдоль забора к своей мазанушке. — Мы экономим на закуске… Вам же лишняя копейка от этого! Только и хлопот, что простирнуть после рукав, которым закусывали…» Аркадий удалялся, вышагивая по кромке, затянутой травой, как цапля. «Топай, топай! — кричала Клава. — Лентяй рыжеголовый! А если по совести сказать, то нам не дано права жить даже здесь: не страдали за эту землю и привести ее в божеский вид не можем. Куда ни взгляни, кругом грязь. Слышишь, пьяная рожа?!» Но Аркадий скрылся за воротцами своей летней резиденции, от которой несло приторно-горьким дымком: будто там шерсть жгли или дохлых собак. И женщины, наработавшись, разошлись. Чище в проулке не стало, но исчезли бугры — разгладилась дорога и, сверкая на солнце, подрагивала, как цементный раствор, способный через некоторое время схватиться и затвердеть. Но ни через день, ни через неделю он не схватился, и проулок продолжал киснуть и клокотать, подогреваемый знойным солнцем. Казалось, что вонючему замесу не будет дна, как его ни прожигай. И битый кирпич, обещанный Тихоном, потерялся где-то вместе с трактором ДТ-54.
Он хотел сплюнуть, но во рту было сухо, как в ладони, натертой черенком лопаты. Щеки ввалились и, как показалось ему, прикипели к деснам. И кто-то ведь тогда потянул его за язык — брякнуть об этом тракторе, хотя достать он его мог только при условии, если бы действительно работал где-нибудь в гараже… «Работал, работал! — со злостью подумал он. — В гараже! Работник хренов… Из армии профессиональных бичей!» О Лехе вспомнил — не полегчало: разве это оправдание? Перед участковым — куда ни шло, а себе все равно не соврешь, себя не обманешь, не проведешь, как рыночного зеваку. Сам-то ты на этом деле пса схрумкал, а он, может быть, только мышонка. Фу, какой разрыв!..
Он сполз в кювет и напился прямо из лужи. Вода оказалась теплой и безвкусной, как в бочке, заполненной вчерашним или позавчерашним дождем. Есть ему не хотелось, и он поспешил к теленку, ожидающему неподалеку. Теленок стоял грудью вперед, но шею выгнул так, что едва не коснулся губами собственной холки: не отставай, мол, хозяин… И тот торопился. Они давно уже привыкли к телеграфному гулу, натянутому между землей и небом, и как бы даже слились с ним. Только вначале не понимали: то ли воздух такой гулкий, то ли гулкой дрожью пропиталась округа, впитывая в себя и траву, и деревья, и людей, и животных, что иногда объявлялись вблизи частых деревень: бредет стадо коров и гудит, гудит необъятной утробой, как сама земля. Но вскоре Тихон почувствовал, что грудь у него онемела и, точно столб, стала гудеть на выдохе.
Вблизи деревень поля невыносимо воняли, как будто их удобрили не навозом, а силосом, пролежавшим в яме года три-четыре. Этот отрезок пути Тихон старался пробежать, сомкнув плотно губы, и теленка торопил. Это были чужие поля, таких полей не было у Тихона в памяти, и сравнить он их ни с чем не мог. Те, далекие, из детства, пахли березовым поленом и русской печью. Тетя Фая, мать Петьки-дружка, ездила по деревне на лошади и с боем выбирала из домов печную золу. Кто отдаст по доброй воле такое золото, у каждого свой огород, своя земля… Но отдавали полю, чтобы не засорять его всякой дрянью. Потому и поля были родными, потому и пахли они родиной, а не остро-кислым, как едкая мазь, силосом.
В заболоченном клине, меж двух бесконечных пропашек, бродили коровы. Они стояли боком к дороге, но почти что враз повернули головы, чтобы разглядеть получше незнакомцев. Тихону вспомнилась Цыганка, умная и послушная коровка. Но жалости к ней он не испытал, как будто тогда, на мясокомбинате, один раз взвыл по ней и оторвал от своего сердца. Теперь он оглядывал коров, и эти чужие коровы доставали до печенок своими шершавыми языками. Он не хотел, но глаза цеплялись за каждую и будто обжигались… Человека, увидевшего корову, не рога интересуют, не холка, не окрас — он смотрит на вымя, по которому и определяет породность этой коровы. Здесь же, в перегляде на Цыганку, породу невозможно было определить: отвисшее вымя тащилось у каждой чуть ли не по самой земле, готовое в любой миг оторваться, но чудом держалось на этом скукоженном лафтаке, точно на пуповине. Может быть, так выглядывает из сумки детеныш кенгуру… Но вымени не было — от коровы отделился какой-то нарост, похожий на пудовую килу. Обезображенное вымя не знало человеческих рук, потому оно и отделилось от коровы. Насосы высасывали молоко, а когда оно кончалось, то как бы по инерции продолжали высасывать и соки, и кровь из опустошенного вымени. Так показалось Тихону. И он не мог себе представить, что вот у этой безрогой буренки когда-то розоватое вымя было покрыто пушком и плотно прилегало к животу, как высокая коврига, потому что сейчас оно блестело и рябило мелкою клеткой, как голенище кирзового сапога, затертое до дыр. Этих коров ему было жалко. А стадо продолжало стоять, и жевало оно свою жвачку, клейко срывающуюся с нижней губы. Казалось, что и травы-то тут доброй не было — одна болотная слизь, которую трудно удержать на языке. Хорошо, что хоть после пастьбы скотину покормят на ферме каким-нибудь травомолом и начнут выкачивать, высасывать из нее молочный должок.
Читать дальше