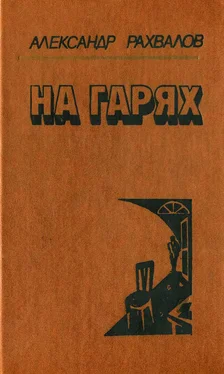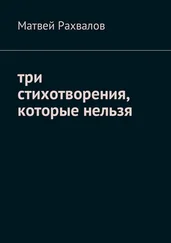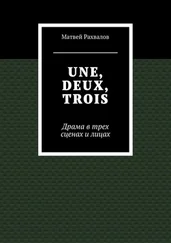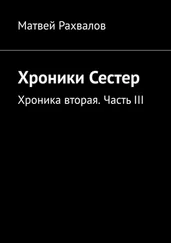«Что же я бегаю по Нахаловке? — мучил он себя. — Как будто от того, что я не приду сюда хотя бы один день, все развалится и рухнет в этом околотке, люди сожрут самих себя…» Порой ему казалось, что это даже лучше, что люди сожрут друг друга, очистят эту землю, так сказать, по доброй воле. Но, вспомнив о Юрии Ивановиче, участковый сплевывал под ноги: «Ни хрена не сожрут!»
Восьмидесятые разворачивались не так, как хотелось бы участковому капитану Ожегову…
Россия, земля-умница, продолжала, как пять лет назад, два года, год… — она продолжала верить в то, что к ней обратятся простым человеческим голосом и проговорят: «Милая, светлая, сильная земля!..»
Но к ней не обратились — ее попытались встряхнуть, как пьяного, что заснул на крыльце гастронома. Она приоткрыла глаза, но, оскорбленная тем, что ее дернули за воротник, не попыталась даже привстать с бетонной ступени. Она плевалась, ругалась, отталкивалась и отбивалась от тех, что на нее наседали со всех сторон. Она не понимала такого обращения… Тогда на ней стали рвать одежду… отрывали пуговицы и крючки, сбивали набекрень кепку, из-под которой наконец брызнул бунтарский чуб… Она не могла смириться с грубостью и с пренебрежительным отношением к ней, а ее тащили в разные стороны и толкали в бока. Пуговицы поотлетали, крючки — не жалко…
Но эти пуговицы и крючки были живыми…
В короткий срок областные тюрьмы заполнили до отказу. В разных городах — в двух, трех километрах от них — спешно воздвигались колонии для взрослых и малолетних преступников. И в тот день, когда участковый капитан Ожегов наконец-то выбрался в Нахаловку после долгих мук и размышлений, из района в облуправление МВД поступила телеграмма, в которой сообщалось, что Панин бугор готов к приему первого этапа малолетних преступников.
Капитан Ожегов шел молчком, хотя прежде он любил что-нибудь выпевать на ходу. Издали он увидел, что возле избушки старика, которого «вывезли» вместе с потрохами в больницу, толпятся люди. Капитан ускорил шаг. Через несколько минут он подошел к толпе, что почтительно расступилась, и скользнул в ограду.
Дощатая дверь, которую бывшие хозяева запирали крепко, была полуразворочена. Кто-то пробрался в сенки, сорвав ее с нижней петли… Участковый нырнул в этот отворот и, проходя сенки, успел подумать: «Только не ограбление! Здесь нечего воровать…»
На пороге его так ослепило, что он прикрылся ладонью: неожиданным и резким был свет, брызнувший в глаза из окон, из которых, по-видимому, кто-то выдрал вонючие подушки. Но Ожегов не застыл на месте, ослепленный, а шагнул вглубь, ни о чем не думая (оперативничек!). Через один-два шага он ткнулся головой, ткнулся носом во что-то твердое, как кость, покрытое тряпкой… В голову так ударило, что жгучие молнии расползлись по вспотевшим вдруг вискам. Да, капитан Ожегов, наткнувшись на что-то, успел вобрать в себя, всосать обеими ноздрями этот сладковато-приторный запах… Он ничего еще не видел, но сознание, сработавшее вмиг, определило: труп. И пульс, прорезавшись в висках, зачастил, как бы вторя сознанию: труп, труп!..
Отступив назад, участковый поднял глаза.
Глаза их встретились и сцепились. Участковый смотрел в глаза Юрию Ивановичу. Тот стоял неподвижно и закрывал собою одно окно, потому находился как бы в тени… Из-за этих глаз участковый не мог оглядеть того, на кого только что наткнулся, но все-таки видел его. Труп висел слева, наполовину закрыв собой окно, освобожденное от подушек. Он висел как-то чуть-чуть внаклон, точно свая, которую держит стрела крана, и похож был на сваю, ровную и тяжелую на весу.
Юрий Иванович почему-то молчал и не двигался.
Тогда Ожегов, сжав челюсти, постарался растащить глаза. Ему хотелось осмотреть труп и не хотелось убегать от молчаливого взгляда Юрия Ивановича. Юрий Иванович по-прежнему смотрел на участкового, и казалось, с усмешкой.
Желтоватое, как кожа опаленной свиньи, в черных подтеках, казавшихся не соскобленной еще и не смытой гарью от паяльной лампы, — таким увиделось участковому лицо покойника.
Желтое, с синеватыми впадинами на щеках, заполненными мелкой, как изморозь, испариной, что говорило о том, что человек хоть и не дышит, но все равно живой — это было лицо «червяковатого» мужичка с писклявым голоском.
Но Юрий Иванович даже не попытался проявить себя — вдохнуть, выдохнуть ли — чтобы доказать, показать участковому, что он действительно живой. Потому его можно было сравнить с неловко повесившимся мужиком, ноги которого касались пола: он не висел, а стоял. И — усмешка в глазах! Вот он, молчаливый и обозленный, скопился в одних глазах и смотрит, смотрит… Теперь ты его ничем не своротишь, так он и будет смотреть.
Читать дальше