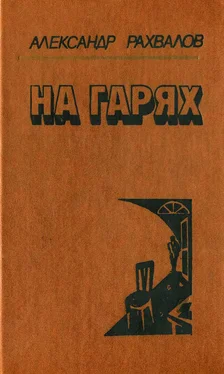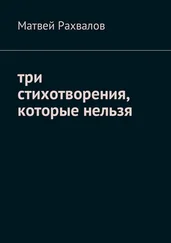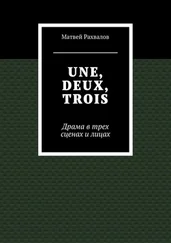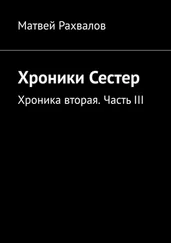Бабы упирались. Зато молодухи шли в новый корпус с радостью. Боже праведный, своя клетушка! Вода горячая, душ, туалет… Пришел с работы — и сверли глазами телевизор… без подселенцев, без лишних глаз и ртов! Радость их охватила великая.
Старые работницы рассуждали по-иному.
Семь лет назад, когда в городе появились «малосемейки» и комбинат решил заложить свою, в партком поступили жалобы и предложения. Люди умоляли не строить такую душегубку, предлагали свои проекты, указывая удобные районы города; они говорили, что каждая работница готова трудиться на строительстве настоящего дома по два часа в день, причем бесплатно. В парткоме не оценили инициативы работниц и продолжили строительство «малосемейки». Бабы запели на все лады.
— Здесь у меня комната, как там — пять, — говорила одна. — Окна просторные, потолки высокие… Нет, я не могу переселиться в новый дом.
— У меня дети, — говорила другая. — Они растут на глазах — под окнами парк, река…
— А чердак? Ты что — забыла? — вступала в разговор третья. — Я обстираю своих, так знаю, что на чердаке высушу белье.
— У тебя двое… У меня четверо! Мне и чердак нужен, и огородец, как сейчас — рядом с «казармой». А там?
Бабы митинговали в просторном и светлом коридоре «казармы». Никто и представить себе не мог, как он соберется и с большой площади вдруг переедет на малую, из хором — в клетушку… Решили погибнуть у родных дверей, но не погибли…
К вечеру их всех выселили… силой. Произошло постыдное происшествие: народ искусственно вызвали на конфликт. А когда люди поднялись да попытались отстоять свою правоту, эту попытку подавили силой, как некогда подавляли восставшие окраины России. Один народ сцепился, не осознавая себя больше народом! А когда одни захлебывались слезами, а другие скрипели зубами, раздраженные сопротивлением, над «казармами» гремели громкоговорители. Видно, кто-то из обкомовских социологов и идеологов предвидел схватку, потому заранее вызвал работников телевидения, и те проигрывали без конца одну и ту же симфонию Дмитрия Шостаковича — Ленинградскую. Гениальная музыка обдирала до крови, люди вспомнили о былом…
Ожегов приехал домой поздно вечером. Он вошел в кухню и попросил воды. Жена, окинув его изумленным взглядом, поцокала языком: «Ого, Нахаловка изрядно тебя изжулькала!» Он закрылся в комнатке и, завалившись на диван, попытался хоть как-то осмыслить происшедшее. «Что же мы делаем? — спрашивал он себя. — Столько лет ждали, что Москва ударит по пустым головам, а она ударила… Люди взвыли…» Он несколько раз представлял себе: выходит на улицу, направляется в отдел, дальше — в Нахаловку. В проулке его встречает Юрий Иванович и спрашивает: «Ну как? Подавили „восстание“?» — «Разобрались, — отвечает Ожегов. — Поладили». — «Я не о том, — продолжит Юрий Иванович. — Я о тридцатых, которыми вы все недовольны…Тогда нас, людей, так не обижали… ни за что! Обижали только за дело. Ну как? „Казарму“ взорвали?» — «Нет, не смогли…» — «И не взорвете, — хихикнет Юрий Иванович. — Ее не какой-то там фабрикант строил… Ее люди советские строили, это было в тридцатых. Тогда строили навеки. А „казарма“ как?» — «Окна выбиты и парк захламлен», — просто ответит капитан Ожегов и попытается обойти Юрия Ивановича. Тот даст дорогу, но выкрикнет: «Читай „Войну и мир“, иначе пропадешь…»
«Ну, знаете, если бы культура „вела“ человека, то все, прочитав „Тихий Дон“, стали бы настоящими людьми. По мне, культура — убить время. А что еще? „Война и мир“ мне душу дали? Нет, душа у меня от матери и отца».
Однажды жена его спросила: «Почему ты не любишь балет?» Он, не задумываясь, ответил: «Я работаю в таком крошеве, в такой среде, где не всякий зверь выживет. А ты — балет! Это же танец бабочек…»
Как и что ни говори, но самыми страшными днями для Нахаловки были выходные. Вот и эти прошли, протянулись над головами, как подожженные самолеты, и рухнули где-то в районе свалки. Дым и копоть. Непьющие сидели дома и скучали, зная, что в городе по выходным дням работают только продовольственные магазины, в которых все равно пока нечего покупать. Пьющие пили разную бурду, покупая ее втридорога у знатных «людей». Бичей вышвырнули, а работяг — куда деть? Они ведь не бичи, они работают… Выходные сжигают.
«Хоть бы лавчонку какую-нибудь здесь открыть, — думал Ожегов. — Не надо колбасы — открой стрелковый тир». Он верил, что в тир бы собрались все мужики, пуляли бы по мишеням, дурачились… Эх, люди. Только вы знаете, как страшны воскресные дни…
Читать дальше