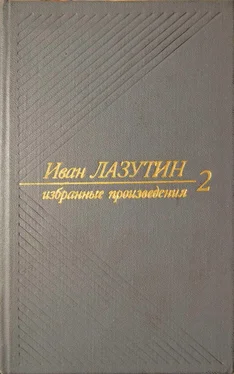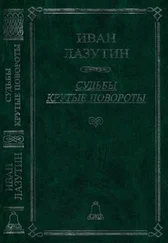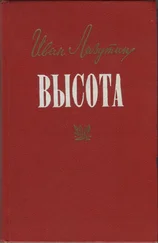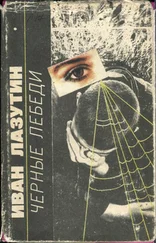На стене висел выкрашенный охрой щит, на котором был приклеен разграфленный синим карандашом лист ватмана. Это был список матерей-рожениц, где против каждой фамилии в графе «пол» стояло «мальч.» или «девоч.». В графах справа цифрами были обозначены вес и рост новорожденного. Фамилии Инги в списке не значилось. Свободных строк на разграфленном листе также не было.
— Странно, почему нет фамилии Инги? — спросил я Николая.
Судя по тому, как определенно ответил он на мой вопрос, мне стало понятно, что отсутствие фамилии Инги в списке рожениц Николая волновало еще утром, когда он приходил сюда без меня.
— Второй список вывесят вечером, а сейчас пока сообщают устно.
Мы просидели в приемной еще около часа.
За окном гремели трамваи. Дверь в тамбуре приемной так громко ударяла о косяки, что Николай всякий раз вздрагивал, словно удар этот холодным болезненным эхом вонзался в его грудь. Дверная пружина была сильная, я это заметил, когда мы входили в приемную роддома.
— Ты что нервничаешь? Поди, перед атакой под Ельней так жадно не курил?
Николай хотел что-то сказать, но ответ его был оборван на полуслове. В дверях, ведущих туда, откуда доносились пронзительные детские крики, появилась полная женщина в белом халате. Ей было далеко за пятьдесят. Я успел заметить выражение ее лица. Такое выражение глаз, такая улыбка могут вспыхивать не там, где люди умирают, а там, где они рождаются.
Понял я также, что это не врач и не медсестра, слишком деревенски-простоватым было ее лицо. Конечно, это была няня.
Выискивая кого-то глазами, няня спросила:
— Кго будет супруг Фокиной?
Это была фамилия Инги.
В руках Николая хрустнул спичечный коробок. Бледные губы его дрогнули в изломе.
— Я, — заикаясь, сипло ответил он.
Сын… — улыбчиво, с владимирской растяжкой проворковала няня и, обдав Николая ласковым взглядом, добавила: — Вылитый папаша…
— Спасибо… — глухо ответил Николай и, как от удара, склонил голову.
Как, очевидно, и полагается в таких случаях, няня предложила нам подождать еще с полчасика, после чего она сообщит о самочувствии оправившейся от родов матери.
Напряженный, с провалившимися от бессонницы глазами, Николай не переставал шагать по вытертой ковровой дорожке. Он не походил на тех сияющих классических папаш, которых показывают в кино, о которых пишут в газетах и журналах.
Длинными показались нам эти полчаса. Вначале я попытался было шутить, но Николай меня резко обрезал:
— Хватит трепаться!..
И снова, скрипя ремнями протеза, он шагал и шагал…
Но вот, кажется, вышли к нам. Три женщины в белых халатах. Почему их так много и почему они так многозначительно улыбаются, глядя на Николая? Одна из них, очевидно, акушерка. Рядом с ней — медицинская сестра. Я это понял сразу, когда они только вышли из родильного отделения. Уж что-что, а отличить врача от медсестры, а медсестру от няни бывший фронтовик, не раз валявшийся в госпиталях, может безошибочно. Впереди всех семеня сияющая нянечка, которая выходила к нам полчаса назад.
Румяная, уже немолодая акушерка, узнав в Николае папашу, принялась поздравлять его с дочерью.
— Как с дочерью? — Николай надсадливо кашлянул в кулак, в котором был зажат сплющенный спичечный коробок, и недоверчиво посмотрел на няню. — Вы же сказали… сын?..
— Сынок и дочка… Стало быть, двойня, гордитесь, папаша, — не переставая жать Николаю руку, поздравляла его акушерка.
Потом Снегирева поздравляли сестра и няня. И тоже долго трясли его руку, желая здоровья, счастья… Я стоял в сторонке и чуть ли не до крови кусал себе губы. Мне было и больно и смешно. Глядя на оторопевшее лицо новоиспеченного «отца» и слушая его нечленораздельное мычание, я насилу удержался, чтобы не расхохотаться на всю приемную.
Приступ холерического, неудержимого и бессмысленного смеха я не раз испытывал в раннем детстве, когда мы, братья, — а нас у отца с матерью было пятеро — разнокалиберной, голодраной ватагой садились за общий семейный стол и в самом начале обеда, когда еще только-только успевали, перегоняя друг друга и давясь, хлебнуть из общей чашки по две-три ложки щей, старший брат Лешка, с ехидцей и сердито опустив на стол глаза, вдруг потихоньку, так, чтоб не слышал отец, но слышали мы, младшие братья, произносил какое-нибудь заковыристое словечко… Фыркая щами и давясь от смеха, мы захлебывались не потому, что Лешка говорил что-то уж очень смешное, а оттого, что за малейшее баловство за столом строгий и не в меру религиозный отец крестил наши лбы своей крепкой деревянной ложкой.
Читать дальше