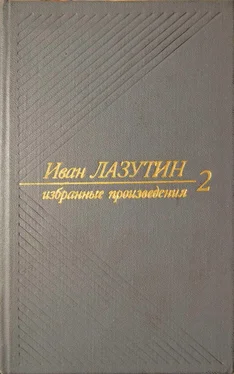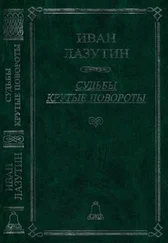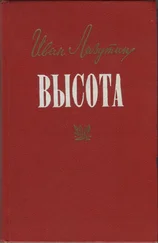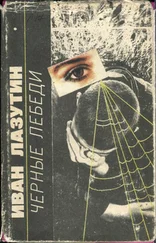Дронов разломил очищенную картофелину, посыпал ее солью и протянул половину Сергею.
— Следующую очистишь ты. Прогрей хорошенько пальцы, помогает от ревматизма, — пробовал он шутить, но Сергею было не до шуток.
— При чем же тут любовь? Из вашего рассказа выходит, что он с этой студенткой из Москвы только что познакомился? Ведь он и до этого уже полгода симулировал?
Дронов на минуту о чем-то задумался, потом вздохнул и, закрыв глаза, тихо ответил:
— Тут не студентка была главной причиной.
— А кто же?
— Тоже женщина, но другая.
— Кто же она?
— Та, что осталась в деревне.
Дронов круто посыпал солью ломоть черного хлеба, разрезал луковицу и половину протянул Сергею.
— После суда у Кузнецова нашли что-то вроде не то дневника, не то черновика писем. Он даже письма ей и то переписывал набело. Но было уже поздно. Из этих писем, а также из писем его невесты установили, что девушка его ждать больше не собиралась. Она писала, что сделал ей предложение один продавец продмага. Я теперь забыл его имя и фамилию, а раньше помнил… Так вот, эта самая бывшая невеста Кузнецова сразу же, как только нас привезли на остров, написала ему, что выходит замуж за другого и просит не беспокоить ее больше письмами. Оказывается, этот продавец из продмага когда-то, как мы потом выяснили, был Кузнецову лучшим дружком. В армию его не взяли по здоровью. Ну и решил, видать, «по-дружсски» свинью подложить.
В одном из последних писем Кузнецов чуть ли не со слезами умолял свою невесту — ее звали Раисой — подождать его хоть несколько месяцев, писал, что ему обещают отпуск, что его должны перевести поближе к дому… Как только он не уговаривал ее, каких только ласковых и хороших слов не писал: и лебедушка, и голубушка, и милая, и родная… И все как об стенку горох. Читали мы ее письма: тупые, грубые, безграмотные. Что ни строка — то гнусь. И откуда у нее в девятнадцать лет такой расчет взялся? Письма ее мы читали по кругу, всей батареей. Если бы это раньше было известью, то, может быть, помогли бы парню разобраться в жизни. А когда эту шараду разгадали — было уже поздно. И вот ведь что досадно и непонятно: ни следователю, ни судьям Кузнецов ничего не сказал о своей невесте. Для него она была святыней. Он даже адвокату, который мог бы на этом построить защиту, и то ничего не сказал о своей любви.
Последнее письмо Кузнецов получил от матери, когда уже лежал на экспертизе во Владивостокском госпитале. Мать писала, что Раиса вышла замуж… — Зажмурившись, Дронов согнутым указательным пальцем тер лоб. — Да, да, вспомнил, вспомнил… Его звали Фетюньковым Шуркой.
Сергей положил на газету ломоть хлеба и картофелину, к которым он даже не притронулся.
— Почему же он отказался от последнего слова на суде? Почему не стал ходатайствовать о помиловании? — Глаза Сергея были широко раскрыты.
— А зачем? Человек был болен. Болен нехорошей, недоброй любовью к нехорошей, пустой и глупой девке.
— Тогда почему же писатели и поэты шумят, что любовь делает человека благородным, что она толкает его на подвиги?
— И на предательство! — спокойно вставил Дронов.
Сергей, не обратив внимания на реплику Дронова, горячо продолжал:
— Зачем тогда моралисты всех времен доказывают, что «любовь есть источник великих свершений, что она рождает возвышенное, красивое…»?
— Ты говоришь о красивой, о благородной и возвышенной любви. А здесь, я повторяю еще раз, любовь была слепа, безответна, а потому губительна. От такой любви нужно бежать. Ее нужно вырывать из сердца, как чертополох! Сжигать на костре и пепел пускать по ветру!..
— А что нужно для того, чтобы вырвать этот чертополох? — тихо и как-то таинственно спросил Сергей, жадно глядя в глаза Дронову.
— Нужно быть сильным! Нужно быть мужчиной!
— Что значит быть сильным? Это общая фраза.
Дронов поднял на племянника колкий взгляд:
— Это означает: вначале — Родина, долг, а потом все остальное: любовь, семья, дружба… Вспомни Тараса Бульбу. Разве не любил он своего сына, красавца Андрия? А ведь убил собственной рукой, когда тот изменил Родине.
Сергей подавленно молчал.
Время шло к рассвету. Костер догорал, а в запасе уже не оставалось хвороста.
Дронов снова закурил. Некоторое время сидел молча. Прислушиваясь к грустным, задавленным всхлипам волн, которые без устали лизали торфяной берег, он тихо-тихо затянул свою любимую морскую песню:
Они стоят на корабле у борта,
Он перед ней с улыбкой и мольбой,
На ней красивый шелк, на нем бушлат потертый,
Он замер перед ней с протянутой рукой…
Читать дальше