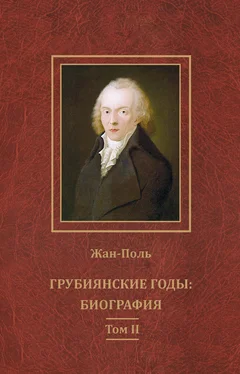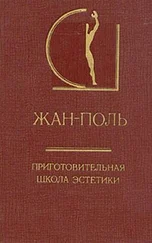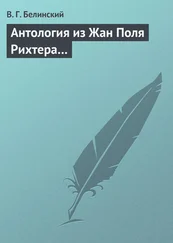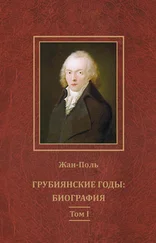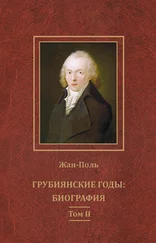Но вернемся к «Зибенкэзу». Усыпить владельца лавки действительно удается, и тогда Жан-Поль – действуя, как контрабандист, – потихоньку меняет сознание своего слушателя и удаляется, как удалился Вульт в самом конце «Грубиянских годов» ( там же , с. 19–20; курсив мой. – Т. Б.):
Тут я, к своему изумлению, увидел, что коммерсант уже заснул и закрыл лавочку своих органов чувств. Мне было досадно, что я его напрасно боялся и держал к нему столь длинную речь: тут я сыграл роль чорта , а он – роль царя Соломона, которого сатана ошибочно считал живым.
Для того, чтобы слушатель, усыпленный моей речью, не проснулся от внезапного молчания, я продолжал спокойно разговаривать с ним, но в то же время постепенно отступал и ускользал по направлению к окну, говоря diminuendo, то есть все более тихим голосом, следующее: «И вот, я твердо надеюсь, что эта публика когда-нибудь научится предпочитать кухонную утварь священной и, решая вопрос о моральном и философском кредите какого-либо профессора, будет прежде всего спрашивать: “Хороший ли это человек?” И далее, можно надеяться, что теперь, дражайшая слушательница (добавил я, не изменяя тона, чтобы спящему слышались все те же звуки), я смогу рассказать вам “Цветы, плоды и тернии”, которые я не успел еще рассказать на бумаге и которые я сегодня легко доведу до конца, если вы там (это относилось к отцу Якобусу) будете достаточно долго спать».
Вот оно, значит, как: все персонажи «Грубиянских годов» суть различные силы, действующие в душе Жан-Поля/ Вальта, или отдельные части его читательской «публики». Впрочем, такого следовало ожидать. Мы об этом уже говорили («В каждом человеке живут… все характеры», с. 899–900). Еще Стерн об этом писал ( Шенди , с. 259–260):
– Хотя человек самый диковинный из всех экипажей (vehicle), – сказал отец, – он в то же время настолько непрочен и так ненадежно сколочен, что внезапные толчки и суровая встряска, которым он неизбежно подвергается по ухабистой своей дороге, опрокидывали бы его и разваливали по десяти раз в день, – не будь в нас, брат Тоби, одной скрытой рессоры. – Рессорой этой, я полагаю, – сказал дядя Тоби, – является религия.
Может быть, этот экипаж – все равно что материнская утроба, и новый человек родится через девять условных месяцев, когда выполнит девять «наследственных обязанностей» или поговорит с семью «резервными наследниками» и еще двумя… Как бы то ни было, существует текст Жан-Поля (в книге «Музей»), который называется «Ночные мысли родовспомогателя Вальтера Фирнайсселя \Vierneissel; это слово означает: «четверной собачий ошейник». – Т. Б.] о его утраченных идеалах эмбриона ( Fdtus ), поскольку он не сумел стать ничем иным, кроме как человеком».
«Родовспомогатель» – еще одна жан-полевская метафора, раскрывающая смысл особой роли поэта. (Фиктивный) автор текста рассказывает о своих мечтах в бытность эмбрионом: что такое существо как он, состоящее почти исключительно из головы и сердца – «эмбрион, подобный мне или читателю », – станет, когда родится, «титаном головы и сердца»: идеальным человеком и читателем. Однако любой человек, родившись на свет, оказывается вынужденным вести «двойную жизнь»: «ради неба (из страха перед адом) и ради ада (из-за пристрастия к небу чувственных ощущений)». Человек уподобляется уродцу, когда-то найденному близ Ульма, – «двойному зайцу»:
Оба зайца так вросли друг в друга спинами, что один должен был тянуть голову и лапы к небу, тогда как другой, на котором он лежал, всем вышеназванным утыкался в поля и объедал их; и наоборот, поскольку они взаимообразно переворачивались; ибо когда один заяц насыщался бегом и кормом, он задирал все четыре лапы к небу, и тогда каникулярный заяц тоже мог бегать по земле и кормиться. Таким двойным зайцем является хороший теперешний образованный человек: он постоянно задирает вверх четыре лапы и две ложки, чтобы вести свою жизнь на небе, тогда как с помощью противоположных конечностей передвигается по земле и насыщается там. <���…> Наш бегающий внизу, по земле, заяц накапливает, как великан Антей, чертовски много сил против другого зайца и Геркулеса, передвигающегося в эфире, – и, как опережающий дьявола ( Тeufels-Vorlauf) , превосходит его во всякого рода грехах.
Виной всему этому – мизерабельное устройство земной (материальной) жизни (курсив мой. – Т. Б.):
«Но почему же, – спросил я никого иного как себя, – столь невинное существо, если Универсум, собственно, есть Град Божий (civitas dei, по Августину) и только наша Земля в нем представляет собой парижскую rue des mauvais gargons [улица «плохих парней» (то есть бандитов)] – des mauvaises paroles [плохих слов] – du pet-au-diable [ «пуканья дьяволу»: камень, которому поклонялись парижские студенты во время молодости Франсуа Вийона, и название его несохранившегося романа] – de la cochonnerie [ «свинства»] – или венский Подлый тупичок, почему бедный неизвестный, этот не получивший имени дьявол-эмбрион, должен добираться кружным путем, через такую Собачью улицу , к великолепной rue de Rousseau [улице Руссо], ше des deux anges [улице Двух ангелов], rue de la loi [улице Закона], Фридрихштрассе, площади Святого Марка? Разве нельзя здесь чем-то помочь?»
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу