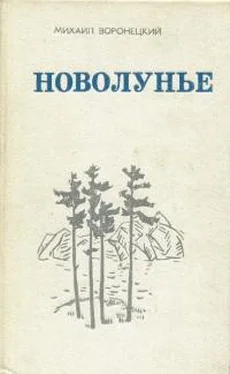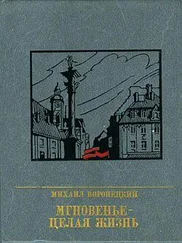— Вот так, мало-помалу, ко всему привыкнешь. Тогда и совсем молодцом будешь.
Отец завалился спать не позавтракав. Мы с теткой Серафимой успели натаскать в денник сена на весь день. Выпустили овец, почистили кошару. Потом пошли завтракать. Вода в кастрюле давно кипела на плите. Тетка Серафима, пока я умывался, принесла из холодной пристройки мерзлые пельмени и покидала их в кипяток.
Я любил пельмени есть вилкой без хлеба. Но тетка Серафима налила мне полную миску щербы и отрезала большой кусок хлеба.
— Хлеб на хлеб, — я с неудовольствием разглядывал плававшие в миске пельмени. — Я привык вилкой. А воду-то, что ее хлебать? Ее сколько ни хлебай — силы не прибавится.
— Это не вода, — сказала тетка Серафима, — а щерба. Или как там по-городскому? Бульон. У нас без щербы нельзя. На морозе ведь живем. Как же нутро не греть? Привыкай. — Она подала мне деревянную ложку. — Ганька железными не любит есть. И я уже привыкла. Лучше. Не обжигаешь губы. Хлебово-то всегда с огня едим.
— А отца будить не будешь?
— Какая еда спросонья. Оставим ему.
Отец спал на кровати поверх дохи. В головах была сложена телогрейка. Он спал совсем бесшумно, на спине, сложа руки на груди, как покойник. Я заметил, что отец и тетка Серафима спят по-разному. Отец спит тихо, дыхания его не слышно. Тетка Серафима храпит во сне так, что иногда сама просыпается, пугается спросонья и говорит:
— О, господи! Прости нас грешных.
А если я не спал, спрашивала:
— Опять дуло меня?
Потом переворачивалась на другой бок, тут же засыпала и минут через пять начинала храпеть громче прежнего.
Когда храпела тетка Серафима, отец закуривал и говорил, прищуривая глаза на текущий от папиросы дымок:
— Ну и здорова же чертова баба!
Я никак не мог понять, почему храп во сне считается признаком хорошего здоровья.
Тетка Серафима ела помногу. Пельмени проглатывала машинально, как бы по необходимости. Зато щербу хлебала так, как будто от этого и в самом деле зависело здоровье: раз откусит хлеба, а в это время раз десять отхлебнет щербы. Потом приляжет на кровать — отдыхает. Но не спит, а мечтает о чем-то.
Я обернулся и увидел, что отец не спит, а лежит и смотрит в потолок. Видимо, он тоже мечтал о чем-то. Тетка Серафима убирала на припечек посуду. Достала из шкафа, прибитого к стене и закрытого ситцевой занавеской, чистую миску, налила с краями щербы, положила несколько пельменей, поставила на стол и сказала:
— Ешь, пока не остыли.
Отец поднялся, умылся за печкой. Утираясь, сказал:
— Давай-ка, Минька, подпоясывайся да иди запрягать.
— В какие сани? С отводами?
— Нет. За дровами поедем. Игреньку в корень, а Карюху на пристяжку. На Карюхе я завтра домой поеду. Пущай силы поберегет.
Отец вышел из избушки красный и потный, как всегда после еды, одетый в доху. Под ней была надета короткая телогрейка, подпоясанная ремнем. В руках он нес еще одну телогрейку и топор. Телогрейку кинул на охапку соломы.
— Это тебе. Там переоденешься. В полушубке жарко будет по снегу лазить.
Топор воткнул острием в передок саней.
Я перебирал вожжи. Отец, перехватив длинные полы дохи, боком упал в сани и неожиданно по-озорному закричал тонким и резким голосом.
— Гра-а-а-абют!
Кони хватили под гору махом. Вслед с лаем бросились собаки. Но отец, махая руками, закричал па них:
— Наза-ад!
Собаки останавливались одна за другой, поворачивались и плелись обратно. Поднявшись на пригорок, на котором была заимка, они сели на задние лапы и обиженно смотрели нам вслед.
Лошади пошли мелкой рысью. За речкой, куда ездили за водой с бочкой (воду сливали в цистерну, что стояла в пристройке к бане, подогревали и потом разливали в колоды, чтобы поить овец), дороги не стало. Мне казалось, что лошади просто бегут по утрамбованному морозами и метелями насту. Но по тому, как они одновременно сворачивали то в одну, то в другую сторону, объезжая забитые снегом лога, я понял, что они бегут по своему следу, проложенному в прежние поездки за дровами.
Покосился на отца. Тот, отвернувшись, полулежал в санях и глядел на подступающий все ближе Файдзулин хребет.
Интересно, о чем он думает? Ночами, когда сторожит от волков кошары, думает. Едет за дровами — тоже думает. И так — годами. О чем можно думать годами?
— Далеко еще? — спросил я. Оттепель оттепелью, а начинал понемногу пробирать озноб.
— За Хусаиновым займищем сразу будем сворачивать, — ответил отец из высокого воротника волчьей дохи.
Читать дальше