И еще несколько строк нежных и сумбурных. Шурка ничего в них не понял, кроме того, что Иван Брусницын прямо с ума сходит от желания поскорее встретиться с его, Шуркиной, матерью…
«Ты пишешь, что ждешь ребенка. А ты не обманываешь меня? Я просто боюсь поверить в такое счастье. Вернусь, а у меня сын! Сына, Леля, только сына! Назови его Шуркой. Так звали моего лучшего друга, который геройски погиб в бою. Я писал уже тебе об этом…»
Шурка вытер глаза и прерывисто вздохнул. Теплое чувство к отцу, которого он никогда не видел, нахлынуло на него. Теперь и мать виделась ему в ином свете. А он-то считал ее старой! Вот она какая. Вспомнил, что однажды ночью проснулся от ее всхлипываний. Окликнул. Она не отозвалась. Был еще один случай, когда сын застал ее над раскрытым сундуком, с желтой кофточкой в руках. Странным взглядом смотрела она тогда на эту кофточку.
Растревоженный, Шурка ходил из угла в угол, чувствуя, что с ним что-то произошло, как будто к его безмятежным тринадцати годам приплюсовалось еще лет пять или шесть осмысленной и горькой на вкус жизни. Конечно, в некоторых, еще запретных для него книгах он уже читал про любовь, но там все было иначе — дальше от Шурки и проходило стороной от его детского сердца. Нет, очень это трудное дело — соприкоснуться с любовью самых близких тебе людей!
Шурка прилег на материнскую кровать, закинул руки за голову и стал смотреть на деревянный, темный от времени потолок, с чуть прогнувшейся матицей. И вдруг все это исчезло. Осталось только небо, мягкое и почему-то теплое. Шурка летел в самолете. Машине было тяжело, он чувствовал это по занемевшей руке на штурвале. Шурка был летчиком. Самолет ложился на крыло, взмывал вверх и делал мертвые петли. Все это Шурка видел в кино, когда показывали воздушный парад. Только вез он сейчас не солдат с парашютами, не военные грузы; даже единственной пушки не было на Шуркином самолете. Он доставлял куда-то ящики с инкубаторскими цыплятами. Желтые пушистые комки бегали по самолету, лезли к приборам, шмыгали под ногами.
— Смотри не вытряхни! — сказал кто-то строгим голосом.
Шурка обернулся и увидел, что за его спиной, очевидно уже давно, стоит младший лейтенант авиации с голубыми погонами. Глаза у него такие же, как у Шурки, и точно так же приподнята левая бровь…
— Вы — Брусницын? — шепотом спросил Шурка и вдруг закричал на все небо: — Папка!
Что-то щелкнуло над его головой, и сон оборвался. Он открыл глаза. В избе, зажженный матерью, горел свет, а сама она стояла рядом, как всегда поражая Шурку своими темными тоскующими глазами…
— Ты что кричишь? Отец, что ли, тебе привиделся? Ну, какой, какой он, говори!
Шурка молчал. А она присела рядом, мягко проводя своей загрубевшей ладонью по его спутанным волосам.
— Сначала по фамилии его назвал, а потом — папка! Думал о нем, да? И я, сынок, думаю. Нет, видно неживой он, если столько лет вести о себе не дает. Надо бы сразу часть запросить, а я в обиду ударилась. Не ответил, и я молчу… А там войне конец, думаю — домой уехал, невесту себе нашел… Может, оно и так, — закончила она со вздохом.
Этого Шурка стерпеть не мог. Он решительно приподнялся на локоть:
— Мама, мы с дядей Степаном запрос о нем сделали. Военкомату. Или в министерство. В общем, дядя Степан скажет тебе, куда. И сегодня ответ пришел. На мое имя… Погиб он. В сорок пятом погиб.
— Нет, — сказала она, слабо отмахиваясь от него, как от наваждения. — Нет, нет, сынок! — И вдруг закричала страшно, каким-то не ее, одичавшим голосом: — Н-е-е-т! Нет!
С постели она сползла на пол и, ткнувшись лицом в половицы, все повторяла это короткое, страшное для Шурки слово — «нет». Он хотел выбежать, позвать кого-нибудь на помощь, но вдруг она затихла. Он поднял ее с пола, она не противилась. Теперь они сидели на кровати вдвоем, обнявшись, как сидят возле пепелища погорельцы или беженцы на вокзалах.
— Ну, что ты так убиваешься, — сказал Шурка, — давно это случилось, сама знаешь.
— Я ждала его. Может, думала, в плен попал… В плену подолгу бывают. Только никому не говорила, о чем думала.
— Ладно, — сказал Шурка, — чего теперь об этом говорить. Показать тебе бумагу?
Она горестно качнула головой. И в самом деле — зачем ей бумага?

ИВАН ДА МАРЬЯ
Большой и черный на белой снегу, Иван перешел дорогу и остановился у своего дома. Ночь была лунной, высокой, белой. Такие ночи бывают только по молодому снегу.
Читать дальше
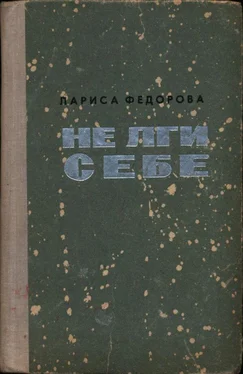


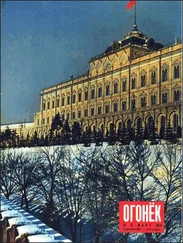

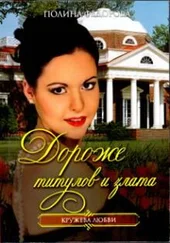

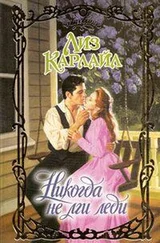


![А. Гейджер - Не лги мне [litres]](/books/396138/a-gejdzher-ne-lgi-mne-litres-thumb.webp)


