Молчаливый от природы Иван яростно сжимал кулаки.
Майор подписал ему пропуск на следование через Москву, выдал увольнительную на трое суток и еще раз предупредил, чтоб дело обошлось без убийства.
Иван поехал.
До Москвы он добрался сравнительно легко, но уже к ночи, и огромный город с зашторенными окнами произвел на него гнетущее впечатление. Чтобы хоть как-нибудь разогнать темень, дворники не очень-то убирали снег. А может, и сил у дворников было маловато из-за скудного питания. Иван не осуждал их за это. Он постоял у вокзала, прислушиваясь к неясному гулу площади, и пошел в помещение обратно, потому что на улице морозило.
К нужной ему станции Иван подоспел на рассвете. Теперь вроде бы и дома, но пятнадцать километров пешком — тоже расстояние, даже для солдата. Поискал было попутную машину до главного шоссе, но, раза три посигналив рукой, понял, что попытки его сомнительны, и крупным шагом стал одолевать дорогу, рассчитывая только на свои ноги.
Хорошо играет солнышко на рассвете, и особенно если поднимается оно среди свежезеленых елей, обступающих дорогу. Никакое иное дерево так не приметно зимой, как ель. Сосна — та слегка блеклая и вся сквозит на фоне блеклого же неба. То ли дело елка! На морозе вся распушится и стоит себе как полногрудая девка, зная, что все на нее любуются.
«А ведь соскучился я по Марье, — вдруг с удивлением понял Иван. — Что же это за напасть такая — баба! Вот вроде убил бы ее сгоряча, и вдруг этакие мысли…»
Иван шагал да шагал по дороге и к девяти утра был уже на главном шоссе, теперь военного значения. Часто попадались грузовики с солдатами и оружием. Солдаты, завидев своего служивого, махали ему, что-то кричали, но он не отзывался, а только шагал, шагал, шагал… Как же ты, Марья, спрашивал он жену, словно сидел с нею за столом в своей избе с глазу на глаз, — как же ты, стерва такая, надумала изменить мне?! Чем же я тебе не муж? Дом сам поставил, баню срубил, одета ты была и обута не хуже других. Выходит, просто в постели тебе заскучалось. Так ведь и мне невесело в холодном окопе лежать или в землянках на нарах, когда глаза крутит дымом.
— Эй, шинель-пехота, садись! — обдав его снегом, застопорил возле Ивана воинский грузовик. — Куда шагаешь?
Иван влез в теплую кабинку и кратко объяснил, куда ему надо.
— Так ты в Шаркуновку? — удивился парень. — Надо же. Наша часть поблизости тут стоит. Ходим мы в Шаркуновку.
— Зачем? — хрипло спросил Иван. Сердце его билось так, что даже медали позвякивали. Вдруг это и есть тот самый Пашка?!
— Ходим-то зачем? А к девкам.
— Может, к солдаткам?
— Чего же. Если вдовая. Не пропадать же добру.
— А если не вдовая?
— Нам разбираться некогда. Может, ей от нашего внимания полегчает. Бабы разные бывают, сам знаешь. Ну, все, слезай, солдат. Вот твоя дорожка.
— Послушай, а как тебя зовут?
— Меня-то? А зачем? Увижу на дороге и так подкину. Бывай!
Грузовик помчался дальше. Иван постоял на шоссе, оглядываясь по сторонам. Он не был здесь три года. В лесу-то как поредело! Видно, дровишками колхоз подторговывает!
Марья писала, что жить в колхозе все-таки можно, председатель попался изворотливый, хотя и на одной ноге. И все же нехорошо так расправляться с лесом. Оголили шоссе, теперь и дорогу переметать станет. А была здесь одна сплошная береза, одна к одной — белая да высокая. Звон стоял от этой белизны, вот какая была роща!
Ивану показалось, что измена жены каким-то образом связана вот с этой потерей, словно вырубили белое не здесь, а в ее, Марьином, сердце.
До родной деревни оставалось два километра. Не очень торная дорога вела в ее сторону. Машины здесь не ходили, путь был только санный, оголенный до черноты тяжелыми конскими копытами. За три года Иван, работавший в колхозе конюхом, соскучился о лошадях и с удовольствием повозился бы теперь в конюшне. Особенно любил он обихаживать маток и жеребят — одних трогательно-заботливых, как всякая мать, других диковато-глупых. Вот как раз на этом взгорочке, помнится, повстречал он, возвращаясь как-то из города, двухмесячного жеребенка, гнедого, с белым ухом. Бежал, видимо, за телегой и отстал. А телега свернула с дороги в лес, за штакетником. Но жеребенок знал вот только эту — прямую дорогу от шоссе до деревни. С жалобным ржанием носился он по дороге туда и обратно, носился до тех пор, пока Иван не словил его на ременной поясок.
В молодом соснячке, сквозь который просвечивали сутулые спины задних дворов, Иван остановился. Нельзя ему приходить в деревню днем на всеобщее обозрение. Даже к тетке Лизавете нельзя. Узнает Марья, прибежит туда с ребятишками, станет спрашивать, почему не пошел домой. Соседи соберутся. Этого он бы не хотел. Иван и сам не знает, как все получится: то ли ударит он жену, то ли, не выдержав характера, обнимет.
Читать дальше
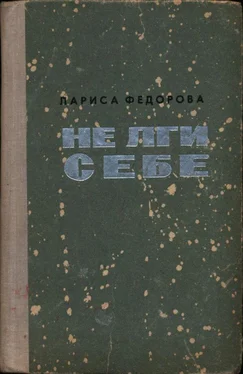

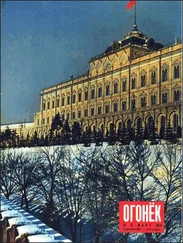

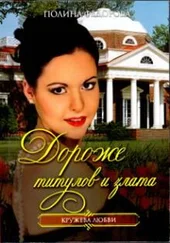

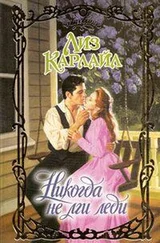


![А. Гейджер - Не лги мне [litres]](/books/396138/a-gejdzher-ne-lgi-mne-litres-thumb.webp)


