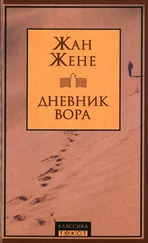Мы кружили над квадратной грядкой капусты; по мере того, как самолет снижался по спирали, я видел, что кочаны увеличиваются в размерах, стебли вытягиваются, и вот капуста превращается в рощу королевских пальм.
Мне рассказывали, что на полях этой провинции Бразилии выращивается много марихуаны, дающей несколько урожаев в год. Но я ничего не заметил, мое внимание было поглощено уникальными королевскими пальмами и грифами урубу. Огромные черные птицы садились на банановые листья так легко и невесомо, что листья даже не дрожали, когда же они взлетали, широко раскинув крылья, усилие было таким мощным, что ствол дерева гнулся. Думаю, даже бомбардировщик В52, отрываясь от земли, меньше беспокоил окружающее пространство. Когда мне пришлось вернуться в столицу, друзьям пришла в голову мысль отвести меня на берег Токантинса, познакомить с одним индейцем; он был очень красив, двадцати семи лет, с миндалевидными глазами и гладкими волосами. Он весьма любезно поприветствовал нас и представил своей семье : жене, негритянке, и четверым мальчишкам с курчавыми волосами. Я не в состоянии передать печаль его голоса, могу лишь повторить слова, которые звучали, будто он зачитывал свидетельство о смерти:
– Посмотрите на цвет их кожи и волосы. Я живу среди чужаков, а ведь это моя семья. Я хожу рыбачить, чтобы их накормить. Когда я родился, мое племя насчитывало пятьсот мужчин. Сейчас пятьдесят. Я не чувствую, что старею, но вижу, как умираю живым, умираю не от старости, с морщинами и седыми волосами, а просто занимаю все меньше и меньше места в семье, которую сам создал, я становлюсь тоньше, мои очертания стираются, вокруг меня индейцы производят на свет негров. Еще живой, я наблюдаю агонию «моего племени».
В хриплом смехе Мубарака пробудился выводок колибри.
– Ты хочешь сказать, что моя мать питалась мясом индейцев? Тогда у меня волосы должны были бы закручиваться, как пружинки, а они мягкие. О, хорошо же ты меня знаешь! Когда я смеюсь, колибри не поют. Будь у тебя хороший слух, ты бы сказал, что они вздыхают. Ты мне рассказывал о палестинском сержанте, черном, который велел подать ужин тебе одному, а потом позволил фидаинам обкусывать кости и вылизывать соус с твоей тарелки, думаешь, я не видел, какая нас подстерегает опасность? Потому-то мы до сих пор и прислушиваемся к сторонникам рабства, сами того не желая. В тот вечер сержант просто хотел отделаться от тебя, от тебя, вскормленного не объедками, а равенством.
– Поясни.
– Если мы все делаем для того, чтобы рабство продолжалось, значит, ни эпоха, ни пространство, в которых мы живем, еще не достигли запредельного цинизма. Негры! Ты и не представляешь, как они почитают нотную азбуку, где половинная нота с точкой – абсолютная величина.
– Ты груб.
– И вульгарен. Я себя знаю. Я смотрю на себя и слушаю себя. Я показывал тебе свое завещание?
– Никогда. В твоем возрасте завещаний не составляют.
– Хочешь посмотреть?
Он сунул руку в карман.
– Нет.
– Взгляни.
Из-за подкладки брюк цвета хаки он вынул клочок бумаги размером с ноготь.
– Можешь читать по-арабски?
– Плохо. Вижу, что есть дата и подпись.
– Перевожу: хватит одного савана. Гроба не надо, сэкономьте четыре доски. Когда я умру, хочу поскорее сгнить.
Он сложил свое крошечное завещание.
– Где ты его хранишь?
– Рядом с левым яичком, в общем, завещание возле члена, членовещание. Слушай, тогда, в бразильском самолете, ты и правда любил этих португальцев?
– Слово любить слишком сильное. Самолет, ныряющий в воздушную яму, был единственной нашей вселенной. Вы там, внизу, были для нас или выжившими или мертвыми. Гораздо менее реальными, чем воздушный винт. Кроме этой вселенной ничего у нас не было. Исчезло всё, что меня отталкивало от этих плантатором, у которых землю обрабатывали негры: в этой стальной машине они стали такими понятными, как я сам.
– Но ты собирался молиться за них?
– Единственная услуга, какую я мог им оказать. Ты бы подумал о том же самом.
Я больше не слышу, что он мне ответил. Огромную фиолетовую мускулистую массу еще можно было разглядеть, но расслышать – уже нет, теперь это был голос копошащихся где-то далеко муравьев.
Поймите, я пытаюсь повторить то, что сказал человек двадцати пяти лет, умерший, к тому же, уже давно, лет двенадцать назад. Читатели скажут, что я еле ворочаю «ослиной челюстью», старой и заржавленной, но каждое воспоминание подлинно. Порыв свежего ветра возвращает скоротечной жизни ее минувшее мгновение, безвозвратно минувшее. Каждое воспоминание, почти как капля духов, придает ушедшему в прошлое мгновению не то чтобы прежнюю свежесть тех самых времен, но иную свежесть, я хочу сказать, оно заставляет прожить другую жизнь. Книга воспоминаний столь же мало правдива, как и роман. Я не смогу воскресить Мубарака. То, что он говорил мне в тот день и в другие дни, никогда воссоздано не будет. Совершенно очевидно, что бразильское путешествие я описать смог, но как ответить мертвому? только красивыми словами или молчанием.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)