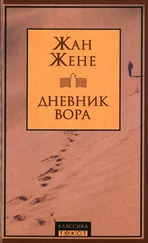Возможно, для нас очарование этого выражения несколько поблекло, ведь мы знаем, что в сельской местности всех волков давно убили, поймав в пресловутые волчьи капканы, ломающие лапы, или просто забив во время так называемых волчьих облав, а само слово «волк», и так не слишком распространенное, сохранило свой корень в двух-трех словах, например, есть собаки-волкодавы, их используют при охоте на волков или для охраны стада, волчанка, тяжелое заболевание, туберкулез кожи, есть еще волчок, и детская игрушка, и отверстие в двери тюремной камеры для наблюдения за заключенными, вот, пожалуй, и все, больше о волках мы не знаем ничего, да и в превращения собаки в волка теперь никто не верит. На Среднем Востоке палестинцу мог угрожать брат, как собаке угрожал волк. Но поскольку еще сегодня, 8 сентября 1985, один из командиров сказал мне, что никакой опасности нет, допустим, и этого отступления тоже не было.
В Соединенных Штатах в среде Черных Пантер наблюдалось некое явление. Не то чтобы никсоновская полиция пыталась погубить партию изнутри, но ФБР все чаще использовало соперничество между черными мужчинами (самцы) и женщинами (кинозвездами и прочими знаменитостями), чтобы в результате фагоцитоза процесс исчезновения Пантер сделался необратимым, что, похоже, и произошло.
На улицах, но особенно на улочках Бейрута, в этот самый час, о котором я так долго говорил, в 1982, можно было встретить загорелых молодых мужчин, у которых половина лица, та, что над верхней губой, была светлой, и по этой примете узнавали палестинца. Ему представлялось, что, сбрив усы, он сможет пройти незамеченным, но бледность кожного покрова как раз и выдавала свежевыбритую часть. На американской белизне чернокожие казались своего рода знаками, придававшими смысл всему мертвенно-бледному континенту. В Иордании все происходило так, будто мятежи и революции были всего лишь праздниками, более или менее долгими, более или менее кровавыми, но замирающими, когда вся эта активность надоедала.
Из аджлунского четырехугольника я мог бы исчезнуть так, что никто бы и не узнал. Поскольку в этом войске дыры имелись повсюду, никто их не замечал; мы свободно уходили и приходили, по крайней мере, так это все выглядело, и чтобы отличить одного солдата от другого, стража руководствовалась скорее фамильным сходством – лицо или манеры – а не униформой, которую любой неприятель-бедуин мог купить в магазинах американской военной одежды, ведь это были знаменитые пестрые комбинезоны, иначе говоря, камуфляж. Все фидаины, а значит, вообще все – кроме меня, чья седина, возраст, вельветовые брюки не оставляли сомнений, что я принадлежу к поверхностному слою этого движения – были одеты в камуфляж.
Два-три раза уезжая в Дамаск, Бейрут или Париж, я предупреждал командиров, но я знаю: случись мне в один прекрасный день исчезнуть, это никого не обеспокоит и не удивит.
Никто и ничто, никакое писательское мастерство не поможет объяснить, чем были для фидаинов эти установленные для них шесть месяцев в горах Джераша и Аджлуна, особенно первые недели, пока не начались сильные ветра и холода. Я сумел бы рассказать о событиях, восстановить хронологию, описать успехи и ошибки фидаинов, передать атмосферу, цвет неба, земли и деревьев, но никогда не смогу дать почувствовать это легкое опьянение, пружинящую пыль и шуршанье опавших листьев под ногами, этот блеск глаз, ясность и прозрачность отношений не только между самими фидаинами, но между ними и их командирами. Они были пленниками этого четырехугольника шестьдесят километров в длину на сорок в ширину, их манеры и поступки воскрешали в памяти молодых вельмож со старинных гобеленов. Можно было бы назвать их пленниками, но только с чьих-то слов. Все под деревьями были взволнованными, смеющимися, восхищенными этой жизнью, такой новой для всех, и для меня тоже, но в этом волнении и трепете было что-то до странности незыблемое, настороженное, сдержанное, безопасное, словно кто-то молча приглядывал за нами. Все принадлежали всем. И каждый себе. А может, и нет. Улыбающиеся и суровые. В этой области Иордании, куда они отступили – в зависимости от даты я могу использовать слова убежали или отступили – счастье под деревьями было таким огромным, что в глазах привилегированных сословий арабского мира палестинская революция выглядела обычной фрондой. На территории имелись леса, маленькие иорданские деревушки, в которых можно было встретить лишь нескольких крестьян, стремительно прятавшихся при виде незнакомцев, какое-то скудное земледелие, хотя если присмотреться к самой земле, она оказывалась тучной и плодородной, но была плохо, поверхностно вспахана, неумело засеяна, и колосья овса или ржи были то слишком разреженными, с просвечивающими проплешинами почвы, то, через пару метров, слишком густыми. Молодые солдаты относились к оружию почти любовно, а смазочный материал казался прозрачным, как вазелин. Всё наводило на мысль, что они влюблены в свою винтовку. Оружие было признаком торжествующей мужественности, и благодаря ему, как ни странно, исчезала агрессивность. За чаем или по вечерам они просили меня рассказать об Америке и небоскребах. Похоже, они были готовы услышать любую нелепицу и не удивлялись, когда я говорил им, что города с поставленными один на другой домами срут стоя. Не в какое-то определенное время, как люди с хорошим здоровьем, а всегда, днем и ночью, из множества задниц одновременно. Они тужились и извергали кучи дерьма, которое растекалось по улицам. Нью-Йоркские небоскребы срут стоя днем и ночью, их кишечники набиты людьми, тем, кто на нижних этажах, тяжелее всего, на них давят верхние, после долгого запора опорожнение происходит так резко, что когда выходит первое дерьмо, дом чувствует облегчение. А потом опять начинаются колики.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
![Жан Жене Влюбленный пленник [litres] обложка книги](/books/431681/zhan-zhene-vlyublennyj-plennik-litres-cover.webp)