А море шумит…
Сквозь шум его, равномерный, монотонный, в душу проникает вопль сирены — с далекого, одинокого в мглистой тьме, маяка. Тягучий, печальный крик!.. Это не хочет умирать наш порт, на который, как только рассветет, снова обрушатся бомбы. Это не хочет умирать наш окровавленный, прочесанный смертью гарнизон, окруженный врагом, но все еще не сломленный в неравной борьбе. Более того, это не хочет умирать весь польский народ, брошенный, обманутый своими бездарными правителями, своими продажными западными союзниками, «дружеской руки» которых мы так и не видим — ни в небе, ни на волнах…
И мы не хотим умирать. Еще недавно — рекруты, теперь мы уже солдаты, обстрелянные до того животного безразличия, когда можно жевать и спать рядом с трупом товарища.
Только время от времени встает перед глазами родное лицо старушки в валенках и расстегнутом кожушке… Она все идет за санями, которые когда-то давно… не полгода, а целую вечность тому назад везли тебя до первой станции, сюда. Идет спотыкается, наклонилась против ветра. Уже не только слез, но и лица ее не видать… Нет, ты видишь сейчас и эти слезы и этот облик — единственный, неповторимый. Ты крепишься, хочешь думать о другом, но оно все возвращается, это лицо… И вот ты без слов, но с отчаянием, недоступным этой одинокой сирене во мгле, кричишь, протестуешь всеми силами молодой души. Польский солдат, белорусский хлопец, ты повторяешь предсмертный крик твоего далекого старого друга, героя Гаршинского рассказа: «Мать моя, дорогая моя! Вырвешь ты свои седые косы, ударишься головою об стену, проклянешь тот день, когда родила меня, весь мир проклянешь, что выдумал на страдание людям войну!..»
Если это — слабость, упадок сил, так есть у нас и взлеты. Нас подымает не только приказ, но и мысль о справедливой войне. Оторванные от всего света, мы не знаем, что в это время по всей польской земле, разрезанной на части гитлеровскими клиньями, одна и та же мысль, одна и та же ненависть к фашизму ведет в бой трудовой польский народ. Не знаем, что из-за тюремных решеток в окопы и на баррикады вышел с народом его авангард — коммунисты. Не знаем. Но мы сами — народ, мы маленькая его частичка, и мы подымаемся по приказу собственного сердца.
Утром мы пошли в наступление.
Цепь наша растянулась от моря — справа, до горизонта — слева. Но цепь эта — редкая. Так же редок и огонь легких орудий, поддерживающих нас. Однако и это тявканье подбадривает. «Максим» разобран: Филец несет ствол, я сгорбился под станком на полозьях. Штыки стрелков, идущих по обе стороны, тоже выглядят довольно внушительно. Нас, кажется, не удивляет и то, что враг молчит. Ободренный этим молчанием, капрал наш кричит, что вечером мы будем, пся крев, в Берлине!..
При этих словах я с горькой усмешкой вспоминаю наше начальство. Прежде всего шефа, старшину, с его, знаменитым блокнотом. До войны ежедневно, во время вечернего чтения приказа по части, на наш молчаливый строй при посредстве этого блокнота, по пунктам: a, b, c, d… — изрыгалась грязная брань, в которой «бедуин», «идиот», «гангрена» были самыми нежно-невинными словами. Для нас, белорусов, был особый ассортимент: «быдло», «татарин», «большевик»… А в первые дни боев этот вояка кланялся каждой пуле и нам неожиданно вежливо. Вот уже несколько дней его и совсем не видно. Не видно также и командира роты, капитана. С нами остались только слова, которыми он напутствовал нас накануне боев: «Когда будем брать немецкие города, не напиваться!» Но это еще не все… Один раз за две недели боев заглянув на холмик в приморском парке, где раньше стоял наш пулемет, мрачный солдафон приказал капралу: «В случае чего — стреляйте их, как собак!..» Слова эти относились к нам, шести рядовым расчета, рабочим и крестьянским парням из разных концов страны…
Сигнальные ракеты придерживают наше правое крыло, выравнивая линию наступления. Тогда становится видно, как одни из ребят, католики, преклоняют колено и торопливо крестятся над молитвенником, другие не менее нервно освобождаются от лишнего груза. Снова идем. Вязнем в размокшей пашне, шелестим картофельной ботвой, выворачиваем мокрые кочаны капусты. Проходим через одну, вторую, третью деревню… Пустые. Идем уже давно. За огородами четвертой кашубской деревни — широкий низменный луг. Редкие вербы. Торфяные ямы, полные воды. Пасутся коровы — их много, и бродят они на свободе, без пастухов.
Здесь и кончается наш триумфальный марш.
За лугом — высокие холмы, на склоне которых засел в окопах враг. Оттуда обрушивается на нас огонь артиллерии. Мы лежим на мокрой траве. Даже лопатки не у всех есть… Снаряды молотят нашу цепочку в течение нескольких долгих, бесконечных часов. Слышен весь их путь: от орудийных стволов, по траектории — до разрыва. Один, второй… двадцатый… сотый… Бесшумно прилетают и особенно страшно разрываются «телята» морской артиллерии, к которой мы никак не привыкнем. То и дело отрывисто заревет точно ахнет задетая осколком корова. Если не убита наповал — снова щиплет траву… с каким-то до ужаса мудрым, непонятным спокойствием. Капрал наш, забыв уже и думать о Берлине, прячется с головой в траву и время от времени вслепую кричит: «Огонь!» Я лежу за вербой, рядом с которой установлен наш старый, образца 1908 года, станкач. Флегматичный Филец и сейчас, кажется, спокойно выбирает цель… Признаться, это нетрудно: в окопах фашисты стоят и ходят во весь рост, что нам хорошо видно и без бинокля…
Читать дальше
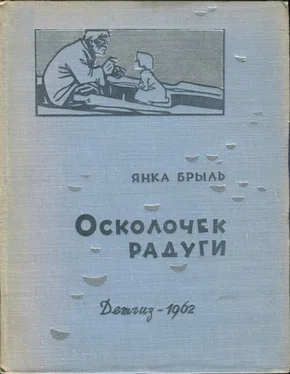




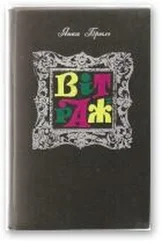
![Янка Брыль - Блакітны зніч [Лірычнае]](/books/89478/yanka-bryl-blakІtny-znІch-lІrychnae-thumb.webp)



