Они ели как мужчины — жадно и сосредоточенно. Говорили мало; им вполне хватало того, что все они вместе, что сидят рядом и можно посмотреть друг другу в глаза.
Когда Сэти повязала голову платком, взяла свой узелок и направилась наконец в город, уже близился полдень. Однако, выйдя из дому, она по-прежнему не только не заметила тех следов на снегу, но и не услышала голосов, что звучали вокруг дома номер 124.
Тащась по колее, оставленной в снегу чьей-то повозкой, Сэти с волнением думала о том, что больше не должна ВСПОМИНАТЬ, и голова у нее кружилась от этого.
Я больше ничего не должна ПОМНИТЬ! Я даже ей ничего не должна объяснять. Она же все понимает. И теперь я могу забыть, как не выдержало того горя и остановилось сердце Бэби Сагз; как мы все решили, что это чахотка, хотя никакой чахотки не было и в помине. И ее глаза — когда она приносила мне передачки в тюрьму — я тоже теперь могу забыть; и то, как она рассказывала мне, что Ховард и Баглер поправились, только друг друга ни на шаг не отпускают и все время держатся за руки, даже когда играют, но особенно — когда спят. Она приносила мне еду в корзине; сверточки были такие маленькие — чтобы можно было просунуть их сквозь прутья решетки; и потом шептала всякие новости: мистер Бодуин намерен посетить судью — пойти прямо в суд, она все время это повторяла: прямо в суд, словно она или я знали, как это делается. Цветные женщины Делавэра подали петицию, требуя для меня помилования и отмены казни через повешение. Что двое белых священников приходили к нам домой, хотели со мной поговорить и за меня помолиться. Что был у нас еще какой-то газетчик… Она пересказывала мне новости, а я все объясняла ей, как мне необходимо какое-нибудь средство от крыс. Она хотела, чтобы я отдала ей Денвер, и даже руками всплеснула, когда я наотрез отказалась сделать это. «А где ж твои сережки? — спросила она. — Я их для тебя сберегу». И я сказала, что их отобрал тюремщик, чтобы, как он говорил, защитить меня от меня самой. Он, видите ли, считал, что я что-нибудь могу над собой сделать с помощью крючков от сережек. Бэби Сагз только удивленно прикрыла рот ладошкой. «А тот учитель из города уехал, — сообщила она. — Заполнил требование вернуть ему беглых рабов и уехал. Тебя обещали отпустить — на похороны. На службу-то, в церковь, не разрешили, а на кладбище отпустят». И меня действительно отпустили. Шериф отвез меня на кладбище и по дороге, стесняясь, отворачивался, когда я кормила Денвер. Ни Ховард, ни Баглер меня к себе и близко не подпустили, не дали даже по голове их погладить. По-моему, на кладбище было полно людей, но я видела только маленький гробик. Преподобный отец Пайк говорил очень громко, но я не расслышала ни слова — только первые три; а через несколько месяцев, когда Денвер уже можно было кормить не только молоком, меня выпустили насовсем. Я сразу пошла и заказала надгробие, но у меня не хватило денег, чтобы сделать надпись, так что я совершила, можно сказать, обмен — расплатилась тем, чем смогла, и до сих пор жалею, что не попросила резчика написать на камне все три слова, которые тогда расслышала в речи преподобного отца Пайка: возлюбленной дочери моей, а ведь ты и есть возлюбленная дочь моя, и, наверное, не стоит так уж сожалеть, что тогда удалось вырезать только одно слово, и не стоит все время думать о тех девушках, которые «работают» по субботам на бойне… Теперь я могу забыть, что мой поступок сломал жизнь Бэби Сагз. У нее больше не было ее Поляны и ее друзей. Ей осталась только стирка чужого белья и починка чужой обуви. Я могу теперь все это забыть, ибо стоило мне возложить надгробие на твою могилку, как ты заявила о своем присутствии в нашем доме и уж старалась, чтобы никто об этом не забывал, всем покоя не давала. Я тогда, правда, этого не понимала. Думала, ты на меня злишься. А теперь знаю: если ты и сердилась тогда, то теперь уж точно не сердишься — ведь ты вернулась ко мне, в этот дом, значит, я все-таки оказалась права: нет для нас другого мира вне стен нашего дома. Мне только одно еще нужно знать: насколько страшен тот шрам?
Пока Сэти шла на работу, впервые за шестнадцать лет опаздывая, поглощенная настоящим мгновением, вобравшим в себя всю жизнь, Штамп боролся с усталостью и пересматривал на протяжении всей жизни сложившиеся представления. Бэби Сагз отказывалась ходить на Поляну, потому что считала, что победили ОНИ; он же отказывался признавать ИХ победу. В доме Бэби черного хода не было, так что он храбро преодолел холод на улице и коридор из бормочущих голосов во дворе и, поднявшись на крыльцо, постучался. Чтобы набраться мужества, он покрепче сжал в кармане красную ленточку. Сперва он стучал тихонько, потом сильнее. В конце концов он забарабанил в дверь как сумасшедший — не веря, как это может быть, что дверь дома, где живут цветные, не распахивается мгновенно ему навстречу. Но дверь не открывалась. Штамп подошел к окну, ему хотелось плакать. Ну да, они были там, дома, но ни одна к двери не бросилась. Терзая в кармане красную ленточку и чуть не порвав ее, старик повернулся и стал спускаться с крыльца. Теперь к чувству стыда и долга примешивалось любопытство. Когда он заглянул в окошко, то увидел двух девушек, сидевших спиной к нему. Голова одной была явно ему знакома, а вот другая… Эту другую голову он узнать не мог и понятия не имел, кому она могла принадлежать. Но ведь никто, никто и никогда в тот дом не заходил?
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




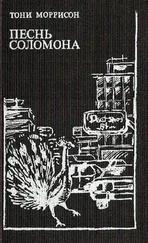

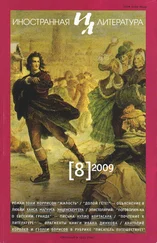

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

