— Можно было бы картошки поджарить… — мечтательно сказала Денвер.
— Завтра, — сказала Сэти. — А сейчас пора спать.
Она налила девочкам еще горячего сладкого молока. Огонь в печи ревел.
— У тебя из глаз уже больше ничего не течет? — наивно спросила Бел.
Сэти улыбнулась.
— Нет, уже ничего. Пей-ка да спать ложись.
Но никому не хотелось вылезать из-под теплых одеял, расставаться с жарким огнем и горячим молоком, подниматься наверх, в ледяную непрогретую постель. И они продолжали сидеть на полу у печи, прихлебывая маленькими глотками молоко и глядя в огонь.
Когда что-то треснуло, Сэти не сразу поняла, в чем дело. Потом ей стало ясно: кто-то щелкал пальцами, отбивая такт; это стало ясно еще до того, как она успела различить первые три ноты знакомой мелодии. Чуть наклонившись вперед, Бел что-то тихонько напевала.
И только когда она умолкла, Сэти вспомнила, что этот щелчок пальцами был ею самой задуман специально и как бы заполнял паузы в определенных местах песенки, которую она, Сэти, сочинила сама когда-то давно. Молоко она не разлила, ибо рука ее не дрожала. Она просто повернула голову и внимательно посмотрела на профиль Возлюбленной, изучая ее подбородок, рот, нос, лоб, повторенные на стене в виде огромной тени, отбрасываемой пламенем очага. Волосы Бел, заплетенные Денвер то ли в двадцать, то ли в тридцать косичек, спускались ей на плечи, словно пальцы рук. Со своего места Сэти, правда, не могла как следует рассмотреть ни ее брови, ни губы, ни…
«Все, что я помню, — говорила когда-то Бэби Сагз о своей дочке, — это как она любила подгорелую хлебную корку. А ее маленьких ручек я уж не смогу узнать, даже если она даст мне пощечину».
…родинки на лице, ни то, какого цвета ее десны; под волосами не видна была форма ее ушей, а также…
«Вот. Смотри сюда. Это твоя мать. Если не сможешь когда-нибудь узнать меня в лицо, то обязательно посмотри сюда».
…не видно было ни пальцев, ни ногтей на пальцах, ни даже…
Но миг, когда она сможет все это разглядеть, непременно наступит. Щелчок прозвучал; все встало на свои места, точнее — повисло в воздухе, готовое скользнуть в родное гнездо.
— Эту песню придумала я, — сказала Сэти. — Я сама. И пела ее своим детям. Никто больше этой песни не знает — кроме меня и моих детей.
Возлюбленная повернулась и посмотрела на Сэти.
— Я ее знаю, — сказала она.
Прочно заколоченный большими гвоздями бочонок, в котором покоится драгоценный клад, сперва следует хорошенько рассмотреть, когда обнаружишь его случайно в дупле старого дерева, налюбоваться им, а уж потом открывать. Может быть, у него и замок-то давно сгнил и отвалился, так что открыть ничего не стоит, и все-таки следует скользнуть пальцем по шляпкам гвоздей, попытаться определить вес бочонка. И ни в коем случае не орудовать топором, когда аккуратно извлечешь его из того тайника, в который он был запрятан давным-давно. И не нужно восторженно вскрикивать и затаивать дыхание, когда тебе откроется это чудо, потому что самое волшебное во всем этом — то, что ты всегда знал: все это время клад лежал там и ждал тебя.
Сэти протерла чистой тряпкой сковороду, поставила ее на место, принесла из гостиной подушки и дала их девушкам. Голос у нее не дрожал, когда она объясняла им, что ночью нужно постоянно подбрасывать в плиту дрова, а если этого делать не захочется, то лучше подняться и лечь в постель.
Потом, накинув на плечи одеяло, она, точно невеста в фате, стала подниматься по снежно-белым ступеням лестницы. Снаружи снег, падая густой пеленой, превратил деревья и кусты в причудливой формы сугробы. Покой зимних звезд казался вечным.
Нащупывая в кармане ленточку и чувствуя запах девичьей кожи, Штамп снова подходил к дому номер 124.
«Устал я — до мозга костей. Говорят, продрог до мозга костей, а я вот — устал. Всю жизнь у меня от усталости кости ломило, а теперь она забралась внутрь. Вот я до мозга костей и устал. Должно быть, так чувствовала себя Бэби Сагз, — думал Штамп, — когда легла и все оставшиеся ей дни думала только о ярких красках». Когда Бэби сказала ему, чего хочет больше всего, он решил: ей просто стыдно, но еще стыдней — признаться в том, что ей стыдно. Ее авторитет среди прихожан, ее «танцы» на Поляне, ее страстные призывы (нет, это были не проповеди, как в настоящей церкви, — она всегда считала, что слишком невежественна для настоящих проповедей, она просто призывала людей к чему-то, и люди это слышали и слушались ее) — все это было осмеяно и отвергнуто из-за той крови, что пролилась у нее в доме. Господь задал ей неразрешимую задачу, и ей было слишком стыдно за Него, если можно так выразиться. Потому-то она и сказала Штампу, что легла в постель, чтобы думать о цветах радуги. Он пытался отговорить ее. Сэти в это время находилась в тюрьме с грудным младенцем — тем, которого Штампу удалось спасти в сарае. Сыновья Сэти крепко держались за руки во дворе и ни за что не желали разлучаться. Знакомые и незнакомые, люди заходили ненадолго, чтобы лишний разок послушать, как оно было, и вдруг Бэби объявила: хватит. Просто встала и ушла. Когда Сэти освободили, Бэби Сагз уже довела себя до полного изнеможения; ее черная кожа начала отливать синевой, а потом — и желтизной. Она высохла настолько, что стала похожа на восковую куколку.
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




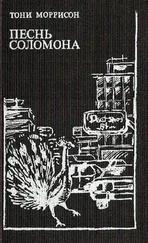

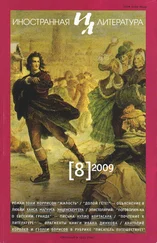

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

