Милый Дом был совсем крошечной фермой по сравнению с теми усадьбами, где она работала прежде. Мистер Гарнер, миссис Гарнер, она сама, Халле и четверо парней, трое из которых носили имя Поль, — вот почти и все обитатели Милого Дома. Миссис Гарнер обычно за работой напевала себе под нос; мистер Гарнер вел себя так, словно весь мир был для него игрушкой, которой ему необходимо всласть наиграться. Никто не требовал, чтобы она работала в поле — у мистера Гарнера со всеми полевыми работами справлялись пятеро парней (и ее Халле в их числе), что она воспринимала как милость Божью, потому что все равно не выдержала бы этого. Она занималась только домашней работой: стоя рядом с вечно напевающей себе под нос Лилиан Гарнер, готовила еду, консервировала овощи, стирала, гладила, делала свечи, шила одежду, варила мыло и сидр, кормила цыплят, свиней, собак и гусей, доила коров, сбивала масло, топила сало, растапливала плиту… В общем, ничего особенного. И никто ни разу ее не ударил, не сбил с ног.
Бедро у нее болело постоянно — но она никогда никому не жаловалась. Только Халле, который всегда был рядом, знал, с каким трудом она ходит; знал, что в последние четыре года, для того чтобы лечь в постель или встать с нее, она должна сперва поднять больную ногу обеими руками. Именно поэтому он и затеял разговор с мистером Гарнером, чтобы попытаться выкупить ее на свободу, чтобы она для разнообразия смогла посидеть и немного отдохнуть. Милый мальчик. Единственный человек на свете, который сделал для нее что-то действительно стоящее: заплатил за нее своей работой, своей жизнью, а теперь вот и своих детей ей отдал, чьи голоса доносились до нее, пока она стояла среди грядок и раздумывала, что же это за темная сила движется сюда, скрытая запахом всеобщего неодобрения. Нет, Милый Дом был, конечно, значительно лучше всех прочих мест. Вопросов нет. Но это было не так уж и важно, потому что тоска жила у нее в сердце, в ее опустошенном сердце, которого она и не ощущала вовсе. Тоска грызла ее, потому что она не знала, где похоронены ее дети и, если они живы, какими они стали, однако она все равно знала о них больше, чем о себе самой, хоть и не было такой карты, которая могла бы ей помочь, рассказать, где они и что с ними.
Приятный ли был у нее в юности голосок? Была ли она хорошенькой? Была ли кому-нибудь доброй подругой? Могла ли стать любящей матерью? Верной женой? Она часто думала: была ли у меня сестра, любила ли она меня? Если бы мать увидела меня взрослой, понравилась бы я ей?
В доме Лилиан Гарнер, избавленная от работы в поле, на которой она когда-то повредила себе бедро, от той бесконечной усталости, что выхолащивала мозги, от постоянной угрозы рукоприкладства, она прислушивалась к тихому пению белой женщины, работавшей с нею рядом, видела, как светлеет лицо ее хозяйки, когда входит мистер Гарнер, и думала: здесь, конечно, лучше, чем прежде, но это не для меня. У Гарнеров, похоже, была какая-то своя, особая система отношений с рабами, к которым здесь относились как к наемным работникам — прислушивались к их советам и сами обучали их тому, что они желали знать. И еще мистер Гарнер не заставлял своих парней спариваться с женщинами. Никогда никого не приводил к ее хижине и не приказывал: «А ну-ка ложись с ней!», как это сплошь и рядом делали в Каролине. И он никогда не одалживал своих негров для подобных целей на другие фермы. Это удивляло ее и радовало, но почему-то и беспокоило. Как будет дальше: выберет ли он для них подходящих женщин сам? Ведь Бог знает, что может произойти, когда парнишки войдут в возраст. Ох, опасное дело затеял мистер Гарнер! Неужто он не знает, как это опасно? Конечно, знает, и его приказ не покидать без него пределы фермы связан не столько с соблюдением закона, сколько с пониманием того, что могут натворить, вырвавшись на волю, парни, выросшие в обществе одних только мужчин.
Бэби Сагз говорила только по необходимости — что она там такого особенного могла сказать, она и слов-то таких не знала, — так что миссис Гарнер оставалось только напевать себе под нос, находя новую рабыню отличной, хотя и чересчур молчаливой помощницей.
Когда мистер Гарнер и Халле обо всем договорились, и Халле сиял так, словно для него не было ничего важнее на свете, чем ее свобода, она позволила перевезти себя на тот берег. Из двух самых тяжелых для нее вещей — стоять на ногах, пока не упадет, или оставить своего последнего и, возможно, единственного теперь сына — она выбрала ту, решение которой делало его счастливым, и никогда не задавала ему того вопроса, который часто задавала себе сама: зачем? Зачем ей, шестидесятилетней рабыне, которая едва ковыляет, точно собака с подбитой лапой, нужна свобода? Но когда она ступила на свободную землю, то все никак не могла поверить, что Халле знал то, чего не понимала она; что Халле, ни разу в жизни не глотнувший свободы, знал, что лучше этого нет ничего в мире. Это испугало ее.
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




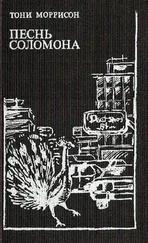

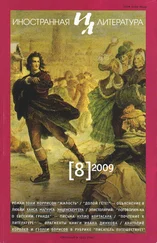

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

