Шагов Возлюбленной она не слышит, тем не менее она здесь; стоит там, где только что не было никого. И улыбается.
Денвер хватает ее за подол.
— Я думала, ты меня бросила! Думала, ты вернулась назад!
Возлюбленная улыбается:
— Мне там не нравится. А здесь — я существую. — Она садится на тюфяк, потом со смехом опрокидывается на спину, глядя на лучики света под крышей.
Денвер тайком сжимает краешек ее юбки — старается удержать. И правильно делает, потому что Бел вдруг резко садится.
— В чем дело? — спрашивает Денвер.
— Посмотри, — Возлюбленная показывает на солнечные лучи наверху.
— Ну и что? Я ничего особенного не вижу, — Денвер следит за ее указующим пальцем.
Возлюбленная бессильно роняет руку.
— Я тоже такая.
Денвер с ужасом видит: она вдруг уменьшается, сворачивается и начинает качаться из стороны в сторону. Глаза ее совершенно пусты, а стоны так тихи и слабы, что Денвер с трудом их слышит.
— Что с тобой, Бел?
Рассеянный взгляд постепенно сосредотачивается.
— Вон там ее лицо.
Денвер смотрит туда, но там ничего — только тьма.
— Чье лицо? Кто это?
— Я. Это я — там.
Она опять улыбается.
* * *
Последний из мужчин Милого Дома, названный так человеком, который это понимал и сам когда-то верил в это. Остальные четверо тоже верили, но их уже давно нет на свете. Тот, кого продали, так никогда и не объявился больше; убежавшего так и не нашли. Один, это он знал точно, умер; и еще один тоже — во всяком случае, Поль Ди надеялся, что это так, потому что жить с вымазанным маслом лицом невозможно. Становясь взрослым, он считал, что из всех чернокожих в Кентукки только они пятеро — настоящие мужчины. Им было позволено — это даже поощрялось — поправлять Гарнера, возражать ему, проявлять в работе всяческую выдумку, самостоятельно следить за хозяйством и исправлять неполадки, не испрашивая разрешения хозяев. Можно было также выкупить мать, выбрать себе лошадь или жену; разрешалось пользоваться ружьями; можно было даже научиться читать, было б желание, но такого желания у них не возникало, поскольку они не верили тому, что пишут в газетах.
Неужели в этом-то и было все дело? Неужели в этом проявлялись настоящие мужские качества? В том, что их назвал мужчинами белый, который, как считалось, знал в этом толк? Вряд ли. В их отношениях с Гарнером действительно была прочная основа: им верили, им доверяли, но самое главное — к ним прислушивались.
Гарнер считал, что их мнение тоже заслуживает внимания, и чувства их тоже вполне серьезны. И то, что он, белый, прислушивался к мнению своих рабов, нисколько не умаляло ни его авторитета, ни его власти. А вот учитель этот учил их как раз обратному. И его истина высилась над ними и махала уродливыми руками, точно пугало во ржи: они считались мужчинами только на территории Милого Дома. Один шаг в сторону, и они тут же превращались в правонарушителей. В преступников. В сторожевых псов с вырванными клыками; в кастрированных бычков, да еще и безрогих; в жалких рабочих коняг, чье радостное или сердитое ржание нельзя было перевести на язык нормальных людей. Сила Поля Ди тогда покоилась на понимании того, что учитель не прав. Теперь же он стал в этом сомневаться: ведь был Алфред в штате Джорджия, был Делавэр, и Сиксо тоже был в его жизни, но он все еще сомневался. Если учитель прав, тогда понятно, почему он, Поль Ди, превратился в жалкую тряпичную куклу, которую то подбирала, то снова бросала где угодно и когда угодно девушка, которая по возрасту годилась ему в дочери. И он совокуплялся с ней, хотя твердо знал, что этого не хочет. Стоило ей повернуться к нему спиной и задрать свои юбки, как воспоминания о телках, забавах его юности (неужели в этом все дело?), повергали его решимость в прах. Но не только любовные утехи с ней унижали его и заставляли думать, что тот учитель, возможно, был прав. Больше всего его унижало то, что она швыряла его, как куклу, делала с ним, что хочет, и он никак не мог ей противостоять. На всю жизнь он теперь был лишен возможности бродить под мерцающими белыми звездами по вечерам; на всю жизнь лишен возможности спокойно посидеть у плиты на кухне, или отдохнуть в гостиной, или хотя бы переночевать в теплой кладовой. Он, конечно, пробовал. Задерживая дыхание, как тогда, когда тонул в жидкой грязи. Усмиряя свое сердце, как тогда, когда его била та немыслимая дрожь. Но сейчас было куда хуже, чем тогда. Это определенно было хуже тех водоворотов в крови, которые он успокаивал с помощью тяжелой кувалды. Здесь, в доме номер 124, когда после ужина он вставал из-за стола и поворачивался к лестнице, сперва возникала тошнота, потом непереносимое отвращение. Это у него-то! У него, который спокойно ел еще теплое сырое мясо; который под сливовыми деревьями, исходившими бешеным цветом, вгрызался в грудь голубя, хотя сердце птички еще билось! Потому что он был мужчиной, а мужчина может все, если захочет: может затаиться на шесть часов в сухом колодце до наступления темноты; может драться голыми руками с енотом и победить; может смотреть, как другого мужчину, которого он любил больше собственных братьев, поджаривают на медленном огне, и при этом не проронить ни единой слезинки, чтобы мучители поняли наконец, что такое настоящий мужчина. Да, это был он, настоящий мужчина, пешком преодолевший расстояние из Алфреда в штате Джорджия до Делавэра, но теперь не способный ни уйти, ни остаться там, где ему хотелось, — в доме номер 124. Стыд!
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




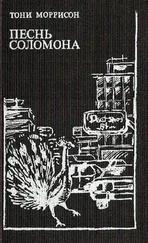

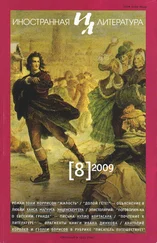

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

