Поль Ди, стоявший в дверном проеме, тоже вышел на веранду и тронул ее за плечо.
— Я не хотел рассказывать тебе об этом.
— А я не хотела про это знать.
— Я не могу взять свои слова обратно, но могу больше никогда к этому не возвращаться, — сказал Поль Ди.
Он очень хочет рассказать мне все, подумала она. Он желает, чтобы я спросила, как ему самому тогда пришлось — как больно языку, прижатому железным мундштуком, когда желание сплюнуть так велико, что от этого люди плачут. Она знала о таком наказании и несколько раз видела его там, где жила до Милого Дома. Видела, как в железо заковывали мужчин, молодых парней, маленьких девочек, женщин. Видела то безумие, что появлялось у них в глазах, когда им в рот вставляли железные удила и дергали, выворачивая губы. После такой пытки разодранные губы и растрескавшиеся уголки рта еще как-то удавалось вылечить с помощью гусиного жира, но язык болел очень долго, и очень долго не исчезало из глаз то безумие, что успело там поселиться.
Сэти подняла голову и посмотрела Полю Ди прямо в глаза, пытаясь разглядеть там какой-нибудь след былого.
— В детстве я видела людей, — заговорила она, — которым в рот вставляли железные удила; они всегда потом выглядели какими-то дикими. Вряд ли такое наказание — за что бы их ни наказывали — приносило пользу: ведь после него в нормальных людях поселялось безумие. А у тебя в глазах я ничего такого не вижу. Они у тебя совсем нормальные, совсем.
— Знаешь, есть способ поселить во взгляде человека безумие, но есть и способ изгнать его оттуда. Я их оба знаю, но еще не решил, какой из них хуже. — Он сел рядом с ней на ступеньку. Сэти посмотрела на него. В гаснущем свете дня его лицо, темно-коричневое, осунувшееся, чем-то вдруг тронуло ее.
— Хочешь мне все рассказать? — спросила она.
— Не знаю. Я никогда об этом не рассказывал. Ни одной живой душе. Иногда пел, но никогда никому не рассказывал.
— Ну так давай. Я могу тебя выслушать.
— Возможно. Может быть, у тебя даже хватит сил. Вот только я не уверен, что сумею. Сказать обо всем так, как надо. Дело ведь было вовсе не в железном мундштуке — нет, не в нем.
— А в чем же? — спросила Сэти.
— В петухах, — сказал он. — В том, как они смотрели на меня, когда я шел мимо.
Сэти улыбнулась.
— Это под той сосной?
— Да. — Поль Ди тоже улыбнулся. — Их там, должно быть, штук пять было — на ветки взгромоздились — и еще, по крайней мере, штук пятьдесят несушек.
— Мистер тоже там был?
— Не совсем. Но я и двадцати шагов не прошел, как его увидел. Он слетел со своего наблюдательного поста на столбе и уселся на бочку с водой.
— Он очень любил сидеть на той бочке, — сказала Сэти и подумала: нет, теперь уже не остановиться.
— Да? Ты тоже помнишь? Как на троне. А ведь это я помог ему вылупиться из яйца, знаешь ли. Он бы подох, если б не я. Мамаша его ушла и весь свой пищащий выводок за собой увела. Только это одно яйцо и осталось. Выглядело оно как болтун, но тут я заметил, что в нем вроде бы что-то шевелится; я тихонько скорлупу-то разбил, и оттуда вылез Мистер, на больных ножках и все такое. Я потом смотрел, как этот сукин сын растет и никому во дворе спуску не дает.
— Да, он всегда был противный, — сказала Сэти.
— Это уж точно. Кровожадный какой-то. И вредный. А кривая нога у него совсем никудышная была. Зато гребень не меньше моей ладони и красный как кровь. И вот сидит он на этой бочке и на меня смотрит. И, честное слово, улыбается! У меня из головы все Халле не выходил — такой, каким я его только что видел. Я даже о железе во рту позабыл. Мне все Халле виделся и то, что случилось чуть раньше с Сиксо… Но когда я увидел Мистера, то понял: все это случилось и со мной тоже. Не только с ними, но и со мной. Один спятил, одного продали, один пропал, одного сожгли, один я остался — с железом во рту и со связанными за спиной руками. Последний из мужчин Милого Дома.
Мистер, он всегда выглядел таким… свободным. Он был куда лучше меня. Сильнее, упорнее. Этот сукин сын не мог сам даже вылезти из яйца и все-таки стал королем, а я… — Поль Ди умолк и стиснул пальцы так, что они побелели, пока мир вокруг не успокоился и он не смог говорить дальше. — Мистеру было позволено стать тем, кем он мог стать. А мне этого позволено не было. И даже если б я его поймал и зажарил, то все равно — я жарил бы петуха по кличке Мистер и знал бы это. А у меня не осталось никакой возможности быть Полем Ди — умру я или выживу. Этот учитель все во мне переломал. И я стал совсем другим, слабее цыпленка и куда слабее того наглого петуха, что сидел на краю кадки с водой и грелся на солнышке.
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




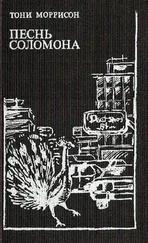

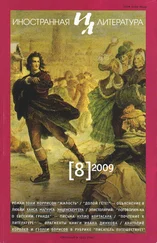

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

