— Ничего она тебя не пугает. Не верю я тебе.
— Пугает. Я сам себя пугаю. Но больше всего меня пугает та девушка в ее доме.
— Кто она такая, эта девушка? Откуда взялась?
— Не знаю. Просто объявилась однажды — на пне у крыльца сидела.
— Хм. Похоже, только ты да я и видели ее — ну, из тех, кто в доме 124 не живет.
— Она же никогда никуда не ходит. Где ж ты ее видел?
— Она в кухне на полу сидела, а я в окно заглянул.
— С первой же минуты, как я ее увидел, мне и близко к ней подходить не захотелось. Что-то в ней не то. Говорит странно. Делает все тоже странно. — Поль Ди сунул палец под шапку и поскреб висок. — И кого-то она мне все время напоминает. Кого-то знакомого, кого я вроде бы должен хорошо помнить.
— Она никогда не рассказывала, откуда родом? Где осталась ее семья?
— Она не знает. Или притворяется, что не знает. Я от нее только всякую ерунду слышал — будто она украла свою одежду и раньше жила на мосту.
— На каком таком мосту?
— Это ты меня спрашиваешь?
— Тут нет ни одного моста, о котором я бы не знал. Только никто на них не живет. И под ними — тоже. И давно она у Сэти поселилась?
— С прошлого августа. В день карнавала пришла.
— Дурной знак. А на карнавале она была?
— Нет. Но когда мы вернулись, она тут как тут — сидит себе на пне и спит. Шелковое платье. Новехонькие башмачки. Черные такие и блестят, будто маслом намазаны.
— Вот как? Хм. Была тут одна девушка за Козьим Ручьем. Ее белый все в доме запирал. А прошлым летом его нашли мертвым, а девушка та исчезла. Может, это она? Говорят, он ее взаперти держал с тех пор, когда она еще совсем младенцем была.
— Зато теперь, похоже, ведьмой стала.
— Так это она тебя выгнала? А не то, что я тебе о Сэти рассказал?
Поль Ди содрогнулся с головы до ног. Холод вдруг пронизал его до мозга костей, так что он вынужден был стиснуть колени. Он не знал, то ли это из-за скверного дешевого виски, то ли из-за ночей, проведенных в погребе, а может, из-за какой-нибудь заразы, подхваченной на бойне, или из-за тех железных оков и мундштуков, из-за улыбающихся петухов, из-за поджаренных ног, из-за смеющихся мертвецов, из-за шипящей в огне мокрой травы, из-за дождей, из-за цветущих яблонь, из-за железного ошейника, из-за Джуди с бойни, из-за Халле с перемазанным маслом лицом, из-за белой, похожей на привидение лестницы, из-за вишневого деревца на спине, из-за камеи на тонкой шейке, из-за осинки, из-за лица Поля Эй, из-за свиной колбасы или из-за утраты своего красного, красного сердца.
— Скажи-ка мне вот что, Штамп. — Глаза у Поля Ди были воспаленными и слезились. — Скажи мне только одно: сколько же может вынести жалкий ниггер? Скажи мне, Штамп, сколько?
— Все он может, — ответил Штамп. — Все он может вынести.
— Почему? Почему? Почему? Почему? Почему?
Тихо стало в доме номер 124. Даже Денвер, которая считала, что знает о тишине все, удивлялась, поняв, что может сделать с человеком голод: заставить быть тише воды и ниже травы. Ни Сэти, ни Возлюбленная, казалось, этого не понимали или, во всяком случае, не обращали на это никакого внимания. Они были слишком заняты, сберегая силы для сражений друг с другом. Так что ей, Денвер, необходимо было первой совершить шаг в пропасть и умереть, потому что иначе умрут другие. Кожа между большим и указательным пальцем на руке ее матери стала тонкой, как китайский шелк, и в доме не нашлось ни одного платья, которое не висело бы на ней как на вешалке. Возлюбленная на ходу поддерживала голову ладонями и засыпала, где придется; кроме того, она постоянно ныла, требуя сладкого, хотя с каждым днем становилась все толще, будто распухала. В доме не осталось ничего, кроме двух кур-несушек, так что в самое ближайшее время придется решать, что лучше: то ли время от времени одно яйцо, то ли две жареные курицы сразу. Чем голоднее они становились, тем больше слабели; чем больше слабели, тем тише было в доме — и это было лучше яростных споров, ударов кочергой о стену, всех этих воплей и плача, которые последовали за тем счастливым январем, когда они только играли. Денвер тоже порой присоединялась к их играм — сдержанно, немного настороженно: она несколько отвыкла от подобных забав, хотя веселее их не было ничего на свете. Но с тех пор, как Сэти увидела тот шрам, кончик которого Денвер давным-давно уже разглядела и видела каждый раз, когда Возлюбленная раздевалась, — будто слабая тень странной улыбки в самом потаенном местечке, под нежным подбородком, — так вот, с тех пор как Сэти, увидев его, надолго закрыла глаза и не открывала их, эти двое как бы отлучили Денвер от своих игр. Эти игры ее мать полюбила настолько, что стала с каждым днем все позже и позже уходить на работу, пока не случилось то, что и должно было случиться: Сойер велел ей не приходить вообще. И вместо того, чтобы начать искать другую работу, Сэти все больше и больше времени проводила с Возлюбленной, которой всегда всего было мало: игр, колыбельных, обновок, поскребышков со дна сковородки из-под кекса, пенок с молока. Если несушка приносила только два яйца, Возлюбленная получала оба. Сэти словно совсем потеряла разум — как бабушка Бэби, когда мечтала о розовом цвете и не желала делать ничего из своих прежних обычных дел. Но Сэти сходила с ума немного по-другому, хотя бы потому, что, в отличие от Бэби Сагз, она совершенно отлучила от себя Денвер. Даже ту песенку, которую она раньше ей пела, она теперь исполняла только для Бел: «Высокий Джонни, широкий Джонни, не покидай меня, мой Джонни».
Читать дальше
![Тони Моррисон Возлюбленная [litres] обложка книги](/books/420258/toni-morrison-vozlyublennaya-litres-cover.webp)




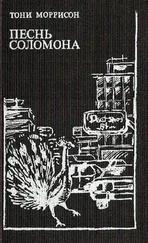

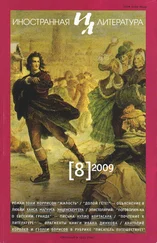

![Джоанна Линдсей - Соблазн для возлюбленной [litres]](/books/392043/dzhoanna-lindsej-soblazn-dlya-vozlyublennoj-litres-thumb.webp)
![Тони Моррисон - Любовь [litres]](/books/400488/toni-morrison-lyubov-litres-thumb.webp)

