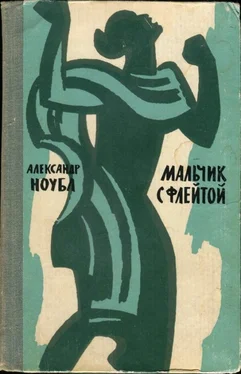Медленно оседало тело Бильона, и, когда он, наконец, рухнул, толпа рванулась вперед, видя и чуя кровь и наслаждаясь поражением Бильона, — теперь это был не человек, а поверженный полицейский.
Динамит моментально обрел равновесие и уже бежал вперед, предоставив толпе снова сбить Бильона с ног, когда тот пытался подняться после удара. За полицейским перед Динамитом промелькнули две фигуры: лежавший на земле белый и склонившийся над ним африканец. Белые женщины в панике бежали обратно в церковь; африканцы, присутствовавшие на концерте, как вспугнутое стадо оленей, кинулись врассыпную в поисках безопасности. Динамит подбежал к машине и едва не свалился, пробираясь через разбитые кирпичи лавки. Он скорее ощутил всем телом, чем увидел, как кто-то из толпы бросился к другой машине, стоявшей на улице церкви.
Он пробрался через кирпичную кладку к окну разбитой машины и протянул руку. Клейнбой был мертв. Или почти мертв, во всяком случае. Динамит знал, что делать. С улицы неслись шумы, крики и визги. Он обошел вокруг машины, почувствовал сильный запах: бензин бил струей из разбитого бака.
Трое или четверо из толпы ворвались в уцелевший угол лавки, растаскивая пакеты с мясом и сосисками, банки говядины. Кто-то, шатаясь, выносил кассу. Динамит шарил по карманам в поисках спичек. Когда он нащупал их, знакомый голос произнес:
— Вот ты где.
Динамит вздрогнул и обернулся. Даже в полутьме эти мертво-зеленые глаза грека Мадзополуса приводили его в ужас. Он взял протянутую зажигалку. Короткая толстая теплая рука коснулась его руки. Он снова вздрогнул. Щелкнул зажигалкой. Эту немецкую зажигалку Мадзополус всегда носил при себе. Крышка была без пружины, и фитиль горел до тех пор, пока палец не закрывал крышку.
Динамиту пришлось щелкнуть два раза, прежде чем появилось пламя. Он швырнул зажигалку в лужу бензина и моментально отскочил назад.
Машина и лавка взорвались с грохотом. Три африканца, в исступлении рвавшие куски говяжьего мяса, выбегали из лавки в горящей одежде. Динамит, сбив голубое пламя с носка ботинка, мокрого от бензина, скрылся незамеченным.
Пламя пожирало машину и лавку. Бунт превратился в сумасшедший праздник. Дым кольцами поднимался в небо. Улица смердила горящим мясом, деревом, бумагой, резиной и густым, раздражающим запахом горевшей дагги.
Огонь дал пищу новому безумству. Где еще недавно был мрак, улица озарилась грозовым пламенем. Фигуры сновали повсюду. Камни летели в церковь — здание, потерявшее теперь всякое значение. Право убежища не признавалось. Толпа катила новенький «опель» священника. Снова звенело разбитое стекло. Новое пламя взвилось в воздух. Толпа кружилась в диком танце, завывая от вожделения. Громче всех раздавались голоса женщин, подстрекавших мужчин, обращая их гнев против церкви.
Они бегали по улицам, давая выход своему ожесточению против всех людей, против голода; угрожая кулаками белому человеку, проклиная крест церкви, приказы, планы и дома белых, свечи в хижинах, крича об опустошенных скотом пастбищах, о дождевых облаках, не приносящих дождя, завывая при воспоминании о скоте, уничтоженном приказом белого человека под предлогом борьбы с эпидемиями, выкрикивая свою ненависть к реестровым книгам и законам о труде, оплакивая бесстыдство своих женщин, беременных от неизвестных мужчин, протестуя против безликости мира.
Сейчас они хозяева. Белые укрылись в церкви. Двое остались лежать на улице. Горел автомобиль белого человека. Они стали хозяевами огня и силы. Хозяевами самих себя. Хозяевами закона. И то время, что были хозяевами, они использовали для того, чтобы во весь голос отвергнуть законы, которые они понимали, но не могли изменить, и те неизменные законы, какие они не могли понять.
Они бушевали еще и потому, что были африканцами, бушевали потому, что это образ действий первобытного народа; они кипели гневом, так как их мыслители обращались к ним со словами учения, которое они не могли еще полностью понять, а когда и могли, то не имели возможности следовать ему.
Они бушевали еще и потому, что разнузданная страсть доставляла им наслаждение — охотиться, подобно диким собакам среди овечьего стада, и разрушать ради разрушения.
Завтра они будут смеяться, а их головы будут болеть от перепоя и от боли этой ночи. И они испытают стыд, когда более мудрые скажут: «Как только мы делаем шаг вперед, вы отбрасываете нас назад».
Но сейчас они бушевали. Даже великолепие этого буйства оказалось кратковременным: яркая вспышка пламени сменилась раздражением и дешевой злобой.
Читать дальше