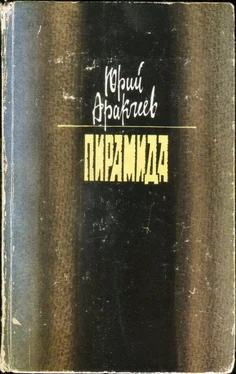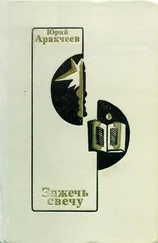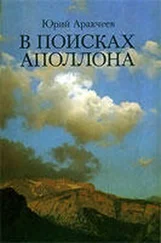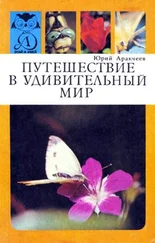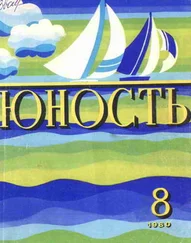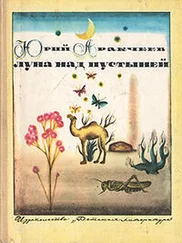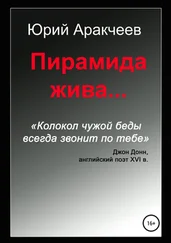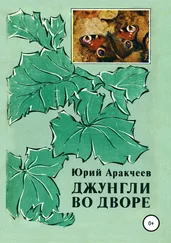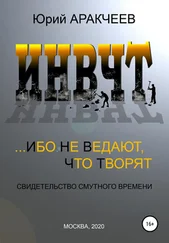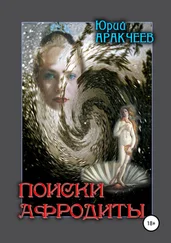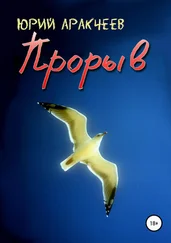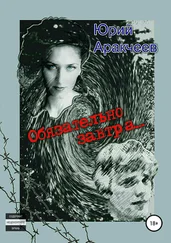Никто не хотел, естественно, ни смерти, ни даже слишком уж несоразмерного наказания, но…
Но выясняется, по логике вещей, что мальчика все же убили.
На этот раз, правда, не сверстники, а взрослые.
Точно так же, как тогда на реке, равнодушно, холодно, словно бы нехотя. И коллективно.
Сначала кассирша магазина, которая первая заметила и подняла скандал.
Потом директор магазина, к которой отвели мальчика и которая, накричав на него, вызвала милицию.
Потом милиционер «конвоировал» мальчика на виду у всех в отделение…
Потом инспектор детской комнаты по делам несовершеннолетних посчитала своим непременным долгом позвонить в школу.
Повторим: все — из-за сырка плавленого стоимостью 26 копеек.
Хотя при этом все в один голос твердили потом журналистке, что видели: мальчик, в общем-то, хороший, «не такой»…
Но тогда… зачем же?
А просто. Исходя из инструкции. Из функций в той системе взаимоотношений, к которой привыкли.
Постепенно выясняется прямо-таки удручающая картина: ни один из этой цепи, из того «строя», сквозь который прогнали мальчика, даже после того, что случилось, не усомнился. Неужели никто из них, даже плачущих в разговоре с корреспондентом газеты, не думал о мальчике, погибшем за 26 копеек? Да, похоже, каждый думал ТОЛЬКО О СЕБЕ.
О том, что произошла неприятность. Для него лично.
То есть как будто бы чужой жизни, чужой трагедии просто не существует. Есть только своя. И имеет значение только то, что касается лично тебя. И настолько имеет значение, насколько касается. Ни больше, ни меньше.
«Товарищи дорогие, да что же это с нами происходит? — восклицает журналистка. — Чем мы мучимся и чем успокаиваемся, почему даже смерть не пробуждает в нас естественные, нормальные — человеческие! — чувства?..»
Беседующие с ней свидетели-соучастники часто произносят одно характерное слово: «функция».
«Мальчика убили не конкретные люди, а та система, при которой важна инструкция, категория, формула, а не истина. Отчуждение человека от функции, которую он исполняет, человеческого от профессионального, социального от нравственного губительно. Сбивается шкала ценностей — и живая жизнь умирает, остаются одни формулы да категории. Конечно, такая смерть — за пределами здравого смысла, но здрав ли этот здравый смысл? Вот в чем вопрос…»
Да, о «слезинке ребенка» говорил Достоевский. И сколько же современных наших моралистов вспоминают и цитируют эти слова, рассуждая о «строительстве нового общества», о «воспитании нового человека», о «коммунистической нравственности». Да чего ж рассуждать-то? Слез ведь потоки — и детских, и взрослых. Их остановить бы. Назвать существующее и бывшее, не отворачиваться в сомнении и смятении. Попытаться разобраться в происшедшем…
Но мало, мало назвать!
Все равно будут защищаться ахатовы. И джапаровы будут судить, и милосердовы. А бойченки станут помогать им, коли это выгодно… Всегда найдутся ахатовы, джапаровы, милосердовы, бойченки. И ичиловы выскочат тотчас: «Чего изволите, гражданин начальник, то и скажу».
А государство на что?! — хочется тут мне крикнуть. А мы, граждане его? Разве же таких, как отрицательные герои всех этих неприглядных дел, большинство?
Бесконтрольность и безграничность власти — вот что создает атмосферу для безнравственных корыстных людей. Чрезмерность и неоправданность власти одних людей над другими искажает нашу природную суть. Талант, мастерство, честность, достоинство — все это легко, без всяких усилий подавляется рычагом такой власти. Даже закон подавляется ею легко.
Чрезмерность и бесконтрольность — это и есть тот материал, которым скреплена пирамида: ничем не оправданная элитарность определенных групп и лиц.
С нею, неоправданной элитарностью, дающей возможность подавлять человеческую волю, достоинство, как раз и боролись те, кто ради других, ради лучшего будущего не жалел и жизни своей во все времена. Гласность, обратная связь, ответственность и «вверх» и «вниз» — как составляющие важнейшего из понятий: уважения человеческого достоинства каждого — только это может ограничить власть, сделать ее оправданной и разумной. «А кто вы такой?» — если и встает этот вопрос, то он должен быть направлен не только вниз, но и вверх: «Кто вы такой, что думаете за меня, решаете за меня, подавляете мое человеческое достоинство?»
Почему же я назвал последнюю часть не «Победа», а лишь «Надежда»? Да потому, что борьба еще впереди.
Читать дальше