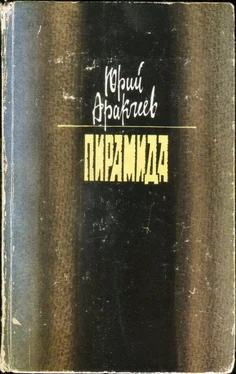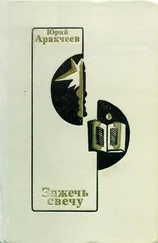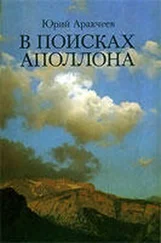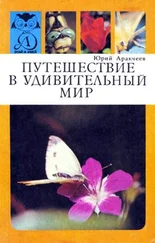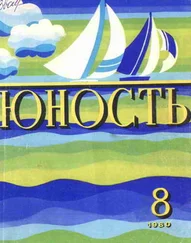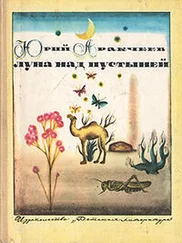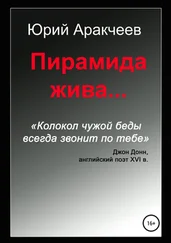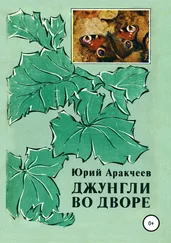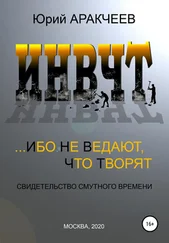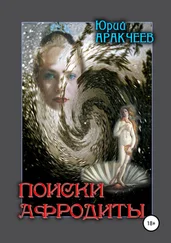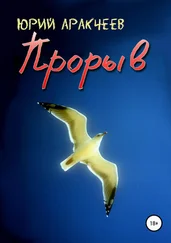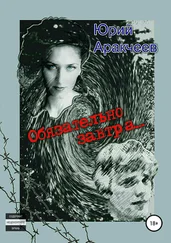Но почему же так? Почему?
Автор последней статьи, известная наша журналистка, делая выводы из этой и многих других, знакомых ей «сюжетов мести», пишет:
«Здесь уже не в человеческих страстях дело, а в абсурдных экономических принципах, которые делают брак, плохую работу нормальными и выгодными».
И если бы все те, кто борется с «правдоискателями», то есть обладающие властью начальники, «чувствовали себя хозяевами производства, заинтересованными в реальных результатах труда коллектива, а не просто в цифровой отчетности», положение бы изменилось в корне.
«…У нас — вопрос жизни: сумеем ли мы понятия гласности, демократизма, правды перевести из призывов в повседневную деловую практику? Мучительное противоречие: критика «снизу» пока нерентабельна, напоминает она порой страдания человека, взявшегося в одиночку перекопать неоглядное поле (а его в одночасье мог бы перепахать трактор!), но, с другой стороны, можно ли ждать, пока повсеместно возникнут условия для критики, автоматически исключающие месть? Это сколько же ждать?!
Нет, как бы ни призывали мы истинных борцов к благоразумию, не смогут они терпеть, мириться, молчать… Как же ценны сегодня такие люди! Долг общества — не убить в них веру».
И вот я читаю теперь все это и радуюсь тому, что опубликовано такое, по… Все совершенно верно, прекрасно сказано, убедительно, точно, правильно, да. Но почему же это «критика снизу» пока «нерентабельна»? Почему торжествуют — а нет никакого сомнения, что торжествуют именно они, — зажимщики критики, те, чья деятельность не на благо, а во зло обществу? Почему «режим наибольшего благоприятствования» существует для них? Почему, наконец, торжествуют «абсурдные экономические «принципы»? Или — пользуясь образом автора статьи — почему трактор в одночасье не перепашет поле? Разве не заинтересованы теперь в этом все?
Поразительны газетные материалы и несколько другой тематики — не о «правдолюбцах» и других хороших людях, которых за их правдолюбие и хорошесть начинают азартно и успешно преследовать, а о современных наших «нуворишах», этаких выныривающих иногда из темных недр общества на свет божий — свет гласности — «хозяевах жизни». Не самого крупного масштаба, но многочисленных и очень своеобразных, характеризующих, наверное, самим своим существованием атмосферу нашей жизни. Это директора магазинов (особенно, конечно же, продовольственных, мебельных, комиссионных), директора и закройщики ателье, механики техобслуживания автомобилей, руководящие работники других сфер быта…
Та же «Литературная газета» дважды писала, к примеру, о некой чете из эстонского города Пярну. Он в прошлом начальник автосервиса, потом руководитель городского ремонтно-строительного управления, она — заведующая стоматологическим отделением санатория… Не бог весть какие большие люди, не какие-нибудь выдающиеся производители материальных или духовных ценностей. А вот ведь на виду у всех — сначала соседей и горожан, а потом, после выступления газеты, — на виду всей страны отремонтировали за государственный счет особнячок (хотя какой там отремонтировали — истинно княжеский шик навели) и живут себе в княжеском теремке вдвоем. Хотя положение с жильем в том же городе Пярну аховое… Очередь — под три тысячи… А еще в той статье проскальзывает, что чета эта вовсе не чемпионы, что есть ловкачи и похлестче в том же Пярну. Да что там Пярну! Других городов у нас мало разве?
Ну, в общем, впечатляющих примеров теперь хватает.
Раньше просто замалчивали (как мне директор издательства говорил: «И так столько безобразия и глупостей! Если о них мы еще писать и печатать будем…»). Теперь вот печатают. Открывается постепенно картина… Но…
И опять совпадение-символ…
История с «Делом Клименкина» началась для меня когда-то с опубликованного в газете письма А. Черешнева, отца мальчика, убитого двумя его сверстниками на сибирской реке. Газета опубликовала тогда само письмо (не знаю, с сокращениями ли, но, думаю, с сокращениями и со «смягчением») и комментарии к нему журналиста и специалиста, которые, на мой взгляд, весьма проигрывали по сравнению с письмом.
Но прошло 13 лет — и опять газета, только на этот раз другая — «Комсомольская правда» — пишет о трагедии с (2-летним мальчиком. На этот раз он как будто бы убил себя сам, использовав для этого пояс от своего пальто… И материал в газете теперь называется не «Письмо отца», а «Письмо отцу о смерти сына»… И пишет его не сам отец, а журналист. Обращаясь к отцу… Взяв на себя тягостную и печальную задачу расследовать это самоубийство (или убийство) мальчика — двенадцати лет! — журналист, вернее, журналистка Инна Руденко, едет в командировку (поселок Московской области), встречается с участниками и свидетелями драмы, размышляет… И сначала видит, что никакого убийства не было. Отец-то ведь подозревал, что причина — тягчайшая психологическая травма, нанесенная сыну в милиции, а все-то и было из-за плавленого сырка ценой в 26 копеек, взятого мальчиком в магазине самообслуживания и не оплаченного по рассеянности или пусть даже по шалости… И видит журналист, что ни в милиции, ни где-то еще никаких особенных злодеев не было.
Читать дальше