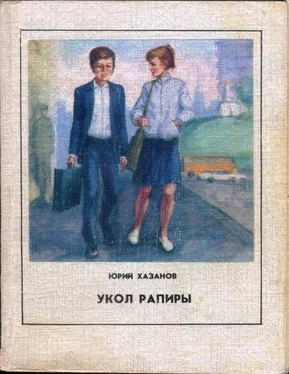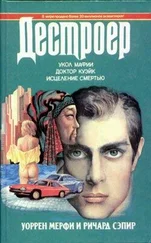— Ты увлекся, — сказала Инна Федоровна. — Примеры твои здесь ни к чему.
— Нет, к чему! Нельзя безответственно раздавать свои мнения о людях, которых ты даже как следует не знаешь, только для того, чтобы прослыть добряком. Это бездумно, это нелогично в конце концов.
— Вот-вот! — крикнул Шура. — И Женька твой говорил о логике.
— Во-первых, он, к счастью, не мой, — сказал Владислав Павлович. — С меня достаточно такого фрукта, как ты. А во-вторых… Действительно, не все родители знают, чем вы там занимаетесь, какие стихи читаете, какие фильмы смотрите…
— Пожалуйста, — сказал Шура, — не хочешь, не надо. Только я никогда не думал, что ты…
— Я говорю не о себе. Но люди есть люди…
— У папы может быть свое мнение, Шура, — сказала Инна Федоровна. — Хватит об этом. Я напишу такую записку.
— Инна… — сказал Владислав Павлович.
— Я напишу, — повторила она.
— Ну что ж, — помолчав, произнес Владислав Павлович. — Мажьте меня черной краской, топчите, обвиняйте во всех грехах… А я, — повысил он голос, — я хочу сказать, что в своей жизни не сделал ничего бесчестного и могу прямо смотреть…
— Хорошо, хорошо, — сказала Инна Федоровна. — Смотри прямо. Только успокойся. Ты сам недавно говорил о вреде эмоций…
Этот вечер и последовавшая за ним ночь стали единственными свидетелями появления на свет нового Шуриного стихотворения. И если в прошлые, довольно далекие времена тематика и образный строй его стихов касались школьных дел или погоды — например:
А утром все проснулись,
И в школу все пошли
И сели за учебники
Учить параграфы…
Или:
Солнце, выйдя из-за тучи,
Осветило все вокруг,
Солнце в мире самый лучший
И полезнейший наш друг!..
…Но теперь в зрелые годы поэт начал, так сказать, копать значительно глубже. Его лирика становится философской.
Я не знаю, что мне делать,
Как мне жить в такой тоске,
Как мне быть с душою, с телом…
Замки строить на песке?
Нет, песка на свете много,
И строителей хватает,
Но…
Дальше этого «но» дело у Шуры не сдвинулось, но… и так уж он сказал немало, возможно, даже скинул часть груза с той самой души, с которой не знал, как ему поступить.
Только если и последовало душевное облегчение, то, к сожалению, ненадолго: следующий день принес новые неприятности.
Во второй его половине Шура и Витя решили обойти еще несколько квартир и собрать «защитные записки» в дополнение к тем, что у них были. Собственно, решил Шура, Витя же тащился за ним без особой охоты.
— Захотят, сами дадут, — говорил он. — Ходить еще к ним, просить, умолять. Неудобно.
— Жди, дадут. Потом догонят и еще дадут. Надо брать, а не ждать милостей…
И они отправились брать.
Витя был прав, дело оказалось не таким простым, чувствовали они себя неловко: не знали толком, что и как говорить, поскольку неизвестно — какие это родители: те, которые бучу подняли, или другие. А во-вторых, почти всюду интересовались, кто послал, а что на это ответишь?..
— Хватит, может? — спросил Витя после очередной неудачи. — Лучше еще раз к директору сходим.
С Шуры тоже было довольно, но его непреодолимо тянуло еще в один дом, еще в одну квартиру, что на втором этаже, а дверь обита темным потрескавшимся дерматином и на площадке такая мелкая желто-коричневая плитка. Шура так ни разу и не был за этой дверью, хотя часто хотелось шагнуть через порог, посмотреть, как она там живет. Ведь он и в доме-то видел ее, может, всего один-два раза — у Стеллы Максимовны. А так, если не считать школы, — только на улице, в кино. Еще в кафе-мороженом. Конечно, можно было давно напроситься в гости, но не станет же он, если сама не догадывается. А сейчас как раз случай подвернулся.
— Пойдем тут еще в одну квартиру, — сказал Шура очень утомленным и очень небрежным голосом. — И тогда точно все.
— Куда? — спросил Витя.
— Да недалеко. Вон, дом пятнадцать, там во двор и налево.
— К Четверикову, что ли? Так он ведь не в драмкружке.
— К какому еще Четверикову?! — Шура начал краснеть. — К Нинке зайдем. Копыловой… А? Давай для смеха.
— Ну разве что для смеха, — с присущей ему тонкостью заметил Витя. И уже совсем не тонко спросил: — Она тебе все еще?.. По-честному?
Шура ответил не сразу. Вопрос, несмотря на краткую форму, был достаточно серьезен. Шура колебался между двумя вариантами. Первый — искренним, когда говоришь не только для слушателя, но и для себя, когда выплескиваешь всю душу, все, чего, может, и себе самому не приходилось говорить. Вариант второй — натянуть на себя шлем небрежности, надеть кольчугу безразличия, да еще прихватить, возможно, щит грубости и не позабыть копье насмешливости.
Читать дальше