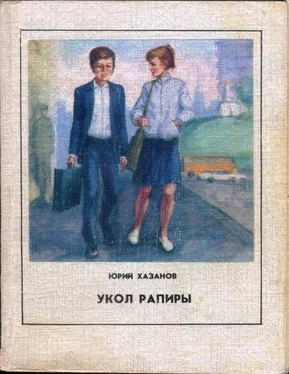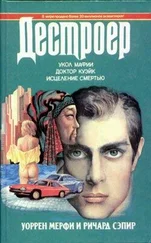Потух свет люстры и боковых светильников, зажглись огни рампы.
— В пьесе, в самом начале, — прошептал Сергей, — там написано: «…Слышно фортепиано с флейтою, которые потом умолкают». Это вальс, который…
Щемящая, нежная музыка зазвучала из-за кулис. На сцене, свесившись с кресла, спала служанка Лизанька. Вот она потянулась, встала и заговорила: «Светает!.. Ах!.. Как скоро ночь минула!..»
И Вера вдруг поняла, что ей очень хочется сидеть здесь рядом с Сергеем и смотреть эту «древнюю» пьесу, которую она «проходила», и видела, и знает, и в эту минуту она сразу и окончательно простила Сергея, взявшего зачем-то билеты на «классику» и донимавшего ее своими умными разговорами. Простила и притронулась к его руке.
В антракте Сергей сказал:
— Слыхала? Это и есть вальс Грибоедова. Один из его двух.
— Грустный какой, — сказала Вера.
— Да, печальный. Минорный называется. А другой веселый, мажорный. Только этот лучше, по-моему.
— Я сначала думала, Шопен сочинил. Похоже, верно?
— Правильно. Многие думают. У Шопена есть знаменитый самый. Седьмой, кажется. На него и похоже. И в другом вальсе тоже есть похожее.
— Значит, как? — спросила Вера. — Выходит…
— Ничего не выходит. Содрал, думаешь? Не бойся… Грибоедов написал эти вальсы, когда и свое «Горе от ума», в начале восемьсот двадцатых. Получается лет на десять раньше самых первых вальсов Шопена. В то время Шопену лет одиннадцать было. В крайнем случае, двенадцать.
— Почему же тогда… похоже так?
— Загадка природы… А может, и не загадка. Может, грусть, печаль они одинаково чувствовали. Хоть и в разные годы…
— А еще накую-нибудь музыку написал твой Грибоедов?
— Жена его, Нина Чавчавадзе, она грузинка, играла другие его произведения. Это известно. Но остались только два этих вальса. А жалко. Шикарный музыкант, наверно, был! На органе умел… Вот люди! И когда все успевали?.. В общем, мало мы знаем про людей, не только про великих, а и друг про друга… Про самих себя… Кто что умеет, может. Или мог бы, если бы… ну, не знаю, что если бы… Вот ты про меня что знаешь?.. Может, я давно тебе стихи написал и музыку сейчас для них сочиняю… Ладно, ладно, идем… Уже третий ЗВОНОК…
Я помнил Ленинградское шоссе совсем не таким. Тогда по нему нечастой вереницей шли грузовые ЗИСы и полуторки, черные блестящие «эмки» и легковые «газики» с брезентовым верхом; еще реже проезжали переполненные автобусы, в их дверях висли пассажиры — издали было похоже, что лопнул огромный красный тюбик и наружу полезла какая-то разноцветная начинка; изредка проносились казавшиеся очень шикарными ЗИСы-101, и совсем уж раз в год по обещанию появлялись доживающие свой век «линкольны» с металлической охотничьей собакой на капоте, с необычным музыкальным сигналом («а-у-а») и «паккарды», блестевшие остроугольной решеткой радиаторов; а сбоку от шоссе громыхали желто-красные трамваи с одним, с двумя прицепными вагонами: девятый номер, шестой, кажется, и еще двадцать третий — и все это негусто двигалось к заводу Войкова, к динамовскому пляжу, к Речному вокзалу, откуда начиналось путешествие по молодому еще тогда каналу Москва — Волга…
А сейчас на Ленинградском шоссе было тесно от людей и машин, не протолкнуться, как во время праздничной демонстрации. Только никто не играл на гармошке, не плясал, не хлопал в ладоши, не пел: «Эх, сыпь, Семен, да подсыпай, Семен!..», или с подвизгиванием: «Лиза, Лиза, Лизавета, я люблю тебя за это!..» Никто не хрустел кремовыми трубочками, не надувал резиновые шарики «уйди, уйди»… Не было ни песен, ни плясок, лишь гул моторов да скрип снега под ногами. И все это двигалось, шагало и ехало в одном направлении — от Москвы.
Шло первое наступление после начала войны. Было пятое декабря сорок первого года.
Я ехал в кабине полуторки рядом с водителем моего взвода Апресяном. Вернее, сидел, не ехал, потому что у моста через канал образовалась пробка и мы никуда не могли двинуться; а потом, когда она стала рассасываться, вперед пошли танки. Тогда еще у нас не было службы регулирования, не было серьезных громкоголосых девушек-регулировщиц в красных нарукавных повязках с черным кругом и буквой «Р», и растасовкой машин на дорогах обычно занимались старшие по званию командиры, которым случалось застрять в той же колонне.
Вот и сейчас какой-то здоровяк со шпалой в петлицах бегал вдоль строя машин, кричал, даже хватался за пистолет. Но никто его, конечно, не боялся и тем более не обижался на него: понимали — человек торопится не к теще на блины, а ближе к передовой.
Читать дальше