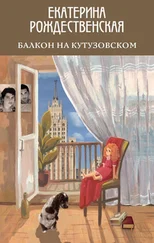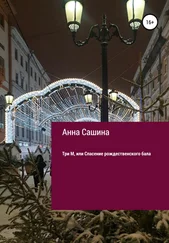Сначала инструменты зазвучали тихо, нерешительно, потом дудукист и зурнач словно вдохнули в них жизнь, и полилась страстная мелодия волшебной любви. Не отставал от них и долист, выбивая мелкую дробь.
— Молодцы, ребята, браво! — Бакур вскочил, подлетел к музыкантам и, склонившись к дудукисту, над самым ухом пропел:
Ты в душе моей царишь, когда я сплю,
Предо мной сидишь ты — когда не сплю.
Скоро музыканты умолкли, возбуждение улеглось, и ребята притихли.
Музыканты, переводя дух, рукавами чохи вытирали взмокшие лица.
— Погодите, чего рукавом утираетесь, нате, осушите пот вот этими бумажками! — И Бакур налепил на лоб дудукиста пятидесятирублевку, а зурнача — двадцатипятирублевку. — По росту даю! — И пришлепал низкорослому долисту десятку. — Живо туш!
Снова застенали зурна и дудуки, повествуя гулякам о своих муках.
— Шибче, шибче! — кричал Бакур, взмахивая рукой, как дирижерской палочкой, потом изобразил в воздухе крест, и звук зурны угас, простонав напоследок, точно испустил дух.
Долист еще раза два пробежал пальцами по туго натянутой коже и, вскинув доли, качнул им в воздухе, выбил мелкую дробь указательным пальцем, после чего ловко пристроил его между ляжками и оскалился, довольный.
Подошел официант с подносом, уставленным бутылками и снедью.
— Это вам послали! — пояснил он, часто дыша, и поставил поднос на стол.
Бакур взял жареного цыпленка, положил на хлеб — шоти — и протянул официанту вместе с полным рогом вина.
— Не могу больше ни есть, ни пить! — заломался официант и похлопал себя по брюху, со страхом глядя на захмелевших ребят, как попавшая в капкан лиса.
— Пей! — грубо потребовал Бакур.
В глазах его было столько злобы и жестокости, что официант не посмел отнекиваться и даже вымученно улыбнулся парню, принимая рог.
— За вашу компанию! За вашу удаль! Век вам веселиться, развлекаться, пить — не напиваться! — Он нехотя поднес рог ко рту и с нескрываемым отвращением принялся отпивать глоточками. От напряжения лоб у него покрылся испариной, капли пота потекли по морщинистому лицу, скатились с подбородка и расплылись по шее.
— Туш! — Бакур повелительно щелкнул пальцами, лихо передернул плечами, обводя зал мутным взглядом, и велел собутыльнику: — Налей-ка мне вина, каракатица! Буду пить за сладкую жизнь! Осторожней наливай, не нагибайся — угодишь в рог!
Щупленький парень с бескровно-белым личиком, пошатываясь, не без труда наполнил вместительный рог.
— Вот чудеса! Я пью, а пьянеет каракатица! — сострил Бакур.
Ребята дружно загоготали.
— Что, улизнуть вздумал?! — Бакур повернулся к официанту. — Пей, пей, пока не вздул тебя как следует!
Официант с тоской оглядел ребят и просительно уставился на Бакура.
— Учти, в последний раз прощаю! Знаешь же меня: разойдусь — распотрошу тебя!
— Чего пугаешь, Бакур-джан! Плохо шутишь, — с деланным весельем сказал официант, превозмогая страх.
— Поглядите-ка на нашего брюхача! На этого обжору! Всажу тебе рог в пасть, узнаешь у меня. — И Бакур зловеще повертел огромным рогом перед носом официанта.
— Вай, что ты за недотрога, Бакур-джан, выходит, и пошутить с тобой нельзя, — растерянно пробормотал официант, задыхаясь и обливаясь потом, как загнанная лошадь.
— Заткнись, пес! Укороти язык, тварь брюхатая! — И Бакур влепил бедняге оплеуху.
— Жизнью клянусь, как брата люблю тебя, твой меч — моя голова! — повинился официант, ошалев от удара.
— Еще влепить?! Как велишь — влепить?! — издевался Бакур, довольный собой.
Официант понимал: перечить наглому своевольному юнцу бесполезно, связываться с ним — все равно что играть с обнаженной саблей. Поэтому предпочел молча стерпеть.
— Знаешь что, я лучше вздую тебя, растрясу брюхо, пока ты не лопнул. — Бакур деловито и почти заботливо оглядел официанта. — Ладно, не буду, пожалуй, марать руки! Но смотри у меня! Давай-ка допивай.
Официант покорно подхватил брошенный ему рог. Подумал, прикинул и благоразумно выбрал смерть от вина. Припал к рогу и с усилием, но осушил-таки. Выпить-то он выпил, но что с ним стало! Побагровел, запылал, глаза с темными набрякшими веками вываливались из орбит. Смачно ругнувшись, он вылетел во двор, — внутри у него бурлило, как бурлит в бочке неперебродившее вино.
Вывернуло всего, беднягу.
— Шляется сюда, поганец, на мою голову! — жаловался он немного погодя чернявому буфетчику, привалившись к стойке и охлаждая оскорбленное сердце стаканом боржоми. — Прикончит меня, гаденыш!
Читать дальше
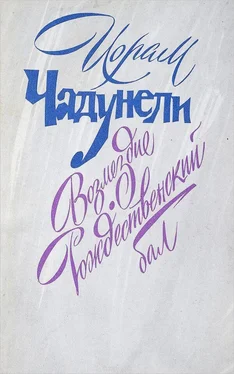



![Екатерина Рождественская - Балкон на Кутузовском [litres]](/books/393763/ekaterina-rozhdestvenskaya-balkon-na-kutuzovskom-li-thumb.webp)
![Дэвид Балдаччи - Рождественский экспресс [litres]](/books/406871/devid-baldachchi-rozhdestvenskij-ekspress-litres-thumb.webp)