Она показала глазами на улицу и площадь за ней: там бурлила, шумела все та же — нет, нет, другая! — толпа, издалека еще более грозная, незнакомая, жадная, хотя их, Глуосниса и мадам Эрику, эти люди уже забыли, как и многое другое, что представлялось им преходящим и недостойным внимания; один, не сходя с места, таинственно присев, мочился или творил кое-что посерьезнее, другой раскладывал для продажи какие-то побрякушки, иной от скуки ковырял пальцем в носу. «Ma’am, ma’am!» — выкликали дети, может, уже другие, и может, уже другой женщине — тоже белой, а то и желтой или даже черной. «Ma’am, ma’am! give me money, ma’am!» Но все они такие же костлявенькие, голенькие, с раздутыми животами, под которыми, будто обстриженные по узелку джутовые веревочки, болтались более или менее заметные признаки принадлежности к мужскому полу; они дети, они бесстыдны, они не прикрываются ни тряпкой, ни набедренной повязкой, как мужчины зрелых лет, хотя, похоже, у некоторых, более рослых, детство что-то очень уж затяжное. «Ma’am give me…»
— Ну пойдем же, пойдем! — лопотала тем временем мадам Эрика, беря Глуосниса под руку («В Кельне она не допускала такой фамильярности… во всяком случае — со мной…»); пальцы у нее были прохладные, ногти ярко накрашены. — Пойдем скорей регистрироваться. В этой стране главное — отметиться. А уже все остальное…
— Почему же, Эрика?
— Потому что здесь все еще постреливают, понял? И даже среди бела дня. Потому что в этой стране и в этом городе, а мы имеем честь быть его гостями, очень много каналов. И все полны водой.
— Говоришь загадками.
— Вовсе нет. Каждое утро из каналов кого-нибудь вытаскивают. И необязательно живым.
— Ты меня порадовала.
— Предупредила… И потом, здесь не любят, когда что-нибудь плохо лежит.
— Воруют?
— Берут. Разве это воровство, если голый калека возьмет себе кусок ткани, а голодный карапуз стянет лепешку? А если это называется воровством, то воруют здесь все, начиная с министра и кончая вон тем… — она махнула рукой в сторону мыслителя, сидящего на корточках за углом гостиницы; прохожие обходили его, точно кол, вбитый не на своем привычном месте. — Без этого тут не проживешь.
— Без воровства? Да что тут воровать? — Глуоснис горестно вздохнул. — Клюку у нищего?
— Клюку! Здесь только у полицейских палки, для остальных это непозволительная роскошь. Ну, еще у солдат, безусловно… А нищие… Здесь, Ауримас, все нищие…
— Все?
— Ну, может, это не то слово… Не то чтобы нищие… То есть даже вовсе они не нищие!
— Как так?
— Они — хиппи.
— Хиппи? Эти бедняги?
— Да. И самые настоящие. Естественные. У нас только суррогат, Ауримас.
— Это где — у вас?
— В Европе. В Кельне… А эти… они ужасно славные, уверяю тебя. Без комплексов, без наигранной экзотики. Все первобытные, от самой природы. Они и не могут быть иными…
— Такими, как в Кельне…
— Да, как в Кельне. — Она взглянула на Глуосниса своими пронизывающими карими глазами; в этом взгляде мелькнул укор. — Или в Париже. Или на Piazza Venèzia [11] Площадь Венеции (в Риме) (итал.) .
. И, может, даже как в Вильнюсе — ты, между прочим, так и не прислал мне видов вашего города…
— Ну, в Вильнюсе… однако… думаю…
— И я думаю, Ауримас, — она опять взглянула на него своими блестящими глазами, под которыми, наперекор всем кремам, залегло несколько глубоких морщинок. — Хотела бы думать. Но ведь в наше время, когда мир утратил какие-то державшие его основы… сама не знаю — какие…
— Весь мир? — усомнился Глуоснис. — Не забывай, что он не так однороден, как тебе представляется.
— Почему мне? Многие так считают, только не знают, что будет дальше. Потому и мечутся. Ищут. Все чего-то ищут. И, понятно, чаще всего не находят… Но тебе, я вижу, неинтересно?
— Безумно интересно. Народы хиппи, гм… хиппи и аристократов духа. Это мне напоминает дьявольски неприятные теорийки, против которых, да будет тебе известно, я настроен с малых лет и которые отрицаю изо всех сил… Против которых, я, кстати, на фронте… соображаешь?
— Дай договорить, Аурис. Кто же тут классифицирует людей и нации? Неужели я? Это было бы слишком грубо. Хиппизм… Когда начинаешь понимать, что каждый из нас — не более чем странник под этим голубым небом и что каждому к своему счастью приходится топать пешочком… Словом, жители этой страны естественны, никем не выдуманы, не продукт рекламы и, поверь, совершенно первобытны. Если угодно — все они йоги…
— Может, от нищеты, которая из века в век…
Читать дальше
![Альфонсас Беляускас Спокойные времена [Ramūs laikai] обложка книги](/books/414753/alfonsas-belyauskas-spokojnye-vremena-ramus-laika-cover.webp)




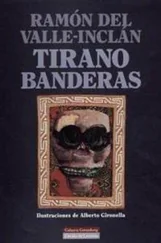
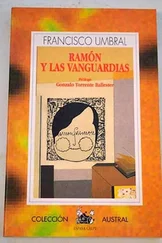

![Макс Мах - Эпоха мечей - Короли в изгнании. Времена не выбирают. Время жить, время умирать [сборник litres]](/books/393605/maks-mah-epoha-mechej-koroli-v-izgnanii-vremena-n-thumb.webp)



