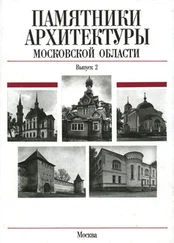— Эта презренная женщина способна на все! Приходится это признать, сударь мой. Говорю на основании давнего и горького опыта. Она готова на все, как готов был на все и ее муж, Пинтя Кэлиман, и весь их бесчестный род Кэлиманов. Но теперь они в наших руках. В наших руках! Ах! Сударь мой, вот свидетели той борьбы, которую я веду уже столько десятков лет… Они знают, что я ни за что не откажусь от возмездия. В случае необходимости пойду на любые жертвы. Отдам все до гроша. Пусть все знают, — я готова жить впроголодь, питаться сухими корками. Никто и ничто меня не остановит… Она получит урок! Я хочу своими глазами увидеть, как имя этой твари, имя всего Кэлимановского рода будет пригвождено к позорному столбу!
Говоря это, она обращалась не столько к своим слушателям и союзникам, сколько к портретам на стенах, пытаясь вдохнуть жизнь в холодные, отрешенные лица. Голос ее осекся. Глубоко запавшие глаза засверкали. Рука, вооруженная металлическим face-à-main, судорожно прижалась к костлявой груди. Несколько прядок выпали из растрепавшегося пучка и разметались по лбу, довершив облик, который в полумраке пустынного зала казался особенно зловещим и жутким.
Успокоившись, она со вздохом осведомилась:
— И на какое же время придется отложить? Каждый день задержки, сударь мой, для меня мучение, смертная мука. Когда мы возбудим дело?
— Точно не скажу. Через несколько дней. Еще раз прошу, сударыня, дайте мне несколько дней.
После долгих переговоров, потребовавших вмешательства Иордэкела Пэуна, она с неохотой согласилась на отсрочку. Тудор Стоенеску-Стоян снял со злополучного письма бесполезную на его взгляд копию.
Кристина Мадольская заперла подлинник в деревянный сундук с перламутровыми инкрустациями, дважды проверив запор, чтобы убедиться в его надежности. Затем проводила их до дверей, протянув с высокого порога костлявую руку, обтянутую пергаментной кожей.
— Домой вас отвезут в моей карете, господа!
— Но, сударыня…
— Прошу вас. Я уже распорядилась. Карета ждет у крыльца.
У крыльца действительно ждала высокая двухместная карета, запряженная дряхлой белой клячей, с Antoine — Антохие Тэрыцэ на козлах.
Втиснувшись в деревянную клетку со стеклянными окнами, Иордэкел Пэун с благодарностью сжал руку Тудора Стоенеску-Стояну:
— Вы были великолепны!.. Благодарю вас. Вы сняли с моей души камень.
— Но разве могло быть иначе? Я ведь обещал вам.
— Конечно, конечно, понимаю и благодарю. Теперь, когда нашелся повод для отсрочки, остается найти подходящие доводы, чтобы убедить ее вообще отказаться от процесса.
— Это даже проще, чем я ожидал. Я имею в виду госпожу Мадольскую. И аргументы, которые бы ее убедили. Юридически тут все ясно. В каком году умер Роман Мадольский?
— Минутку… Ага! Могу сказать точно: восемнадцатого мая тысяча восемьсот девяносто третьего года, в субботу.
— Вы уверены, господин Иордэкел?
— Я не ошибался даже в датах более давних и более сомнительных! — обиженно произнес Иордэкел Пэун. — Могу назвать даже час: между шестью и семью утра.
— В часах, днях и месяцах нет нужды, господин Иордэкел! Значит, в тысяча восемьсот девяносто третьем году? Письмо датировано мартом восемьдесят восьмого года; в нем указана и дата вступления во владения: август того же года. Этих данных достаточно, чтобы переубедить даже такую любительницу бессмысленных тяжб, как госпожа Мадольская. После срока, указанного в письме, Роман Мадольский прожил еще около пяти лет. Если бы ему было на что предъявить иск, он бы его предъявил! Если бы письмо имело силу, он бы по нему взыскал! С этим делом и ребенку все ясно, так что при первом же свидании мы с вами ее переубедим.
— Сомневаюсь! — вздохнул Иордэкел Пэун. — Вы хоть и выслушали ее нынче, но плохо ее знаете. Однако будем надеяться.
— Я уверен, господин Иордэкел!
Тудор Стоенеску-Стоян разорвал копию письма в клочки, поднял стекло кареты и вышвырнул обрывки под дождь.
Экипаж, жалобно скрипя, тащился по пустынным улицам. Белая кляча плелась, то и дело спотыкаясь. Выездной лакей в своем нелепом костюме разговаривал сам с собою на козлах. В тоскливых дождливых сумерках неуклюжая карета и кучер являли собой фантастическое зрелище.
Тудор Стоенеску-Стоян радовался, что на улицах пусто и никто не увидит его в этой колымаге и слух об этом не дойдет до стола пескарей, где его с радостью прокомментирует Пику Хартулар.
Иордэкел Пэун, витавший мыслью в иных мирах, очнулся и спросил с кротким упреком:
Читать дальше
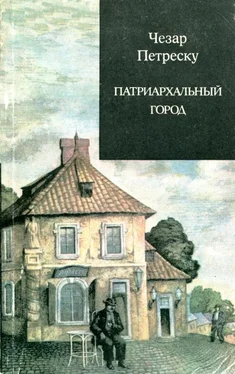


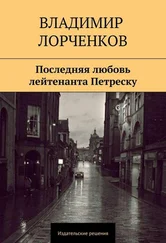





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)