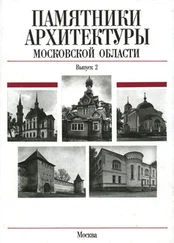Старик замолчал и ждал, откинувшись на спинку стула.
Мгновенно продумав ответ, Тудор Стоенеску-Стоян сказал:
— Но ведь для города это сказочная удача! Залог процветания, прогресса, деятельной жизни! Конец застою, в котором он теперь находится.
— Именно на это упирает и господин префект Эмил Сава, — горько улыбнулся Иордэкел Пэун. — В точности его доводы. Его и господина Иордана Хаджи-Иордана.
— Но разве эти доводы неубедительны?
— Простите меня! Повторите, пожалуйста! — попросил старик, поднося ладонь к уху. — Я что-то плохо расслышал…
Тудор Стоенеску-Стоян повторил:
— Разве эти доводы недостаточно веские? Мне кажется, правда на их стороне…
Старик еще раз горько улыбнулся:
— Бабушка надвое сказала! Но у этой истории есть еще одна сторона… Кому это выгодно на самом деле? Городу? Горожанам?.. Чепуха!.. Какой прогресс и какое процветание принесли вышки и нефтеочистительные заводы, например, в Кымпину? Условия жизни какими были, такими и остались. Доходы текут в сейфы акционерных обществ, использующих иностранный капитал, а из местных жителей — весьма немногих чернорабочих, инженеров или счетоводов. Страна превращается в полуколонию. Такая участь грозит и нашим городам, если они поддадутся химере промышленного и коммерческого возрождения. Разбогатеет один какой-нибудь Иордан Хаджи-Иордан или господин Эмил Сава — как преуспел в свое время дед его жены Лаке Урсуляк; а за их спиною, где-то в дальних краях, — и другие дельцы, те, что диктуют условия, спекулируют, получают прибыли, играют на бирже… А сами небось даже не могут толком сыскать на карте страну, откуда поступают их барыши. Им нет дела, как мы живем, чего хотим и к чему стремимся. Лишь бы текли денежки! А мы тут, на другом краю земли, по-прежнему прозябаем в нищете! Вы что-то сказали?
— Нет. Ничего.
Тудор Стоенеску-Стоян ничего не сказал, потому что сказать ему было нечего.
Он бессознательно оглядывал комнату, стены, книжные полки, выцветшие гравюры, мало-помалу проникаясь теплом и уютом обители книжника, любителя библейской премудрости и древних поучений.
Печей еще не топили. Но от стен, книг, гравюр, шерстяных деревенских половиков веяло теплом и обволакивающим домашним покоем, какого он никогда не знавал в той тесной бухарестской квартире, где увидел свет и провел безрадостное детство, существуя на нищенское жалованье отца, служившего секретарем в суде, рано овдовевшего, угрюмого человека, который не любил своего дома и понятия не имел, что такое домашний очаг, с его милыми и уютными пустяками. А здесь пахло айвой и яблоками, которые были разложены по верху книжных полок; на подоконниках в глиняных горшках — осенние цветы; старое, но покойное кресло; кофе в старомодных пиалах — все, словно целительный бальзам, нежило и согревало душу!
Тудор Стоенеску-Стоян расслабился. Погружаясь в приятную дрему, примирялся со всей вселенной, с самим собой, со своими тайными пороками и грехами. Стоит ли думать, говорить, отвечать?
Сидя на жестком стуле с прямой спинкой, точной копии стула Кристины Мадольской, возможно, полученном от нее в дар, старик аккуратно скручивал сигарету, не спуская с Тудора своих кротких, доброжелательных голубых глаз. Вставив сигарету в мундштук, зажег, затянулся и сказал:
— Как ничего? Вам нечего сказать?.. Понимаю… Вы еще очень далеки от всего, что в нашем городе свершается и рушится изо дня в день. Впрочем, я пригласил вас к себе, в это скромное жилье пенсионера, вовсе не для расспросов. Я хотел сам кое-что рассказать вам; поделиться сведениями и мыслями о наших городах и их судьбах. Эти мысли и факты — итог всего, что я прочитал, изучил и обдумал почти за полвека; это может пригодиться для ваших романов…
— Ох! Мои романы! — отмахнулся Тудор Стоенеску-Стоян. — Не будем о них говорить.
Иордэкел Пэун покачал головой.
— Напротив, давайте поговорим. К чему эта скромность? Какой в ней прок?.. Признаю, вы взвалили на себя тяжкое бремя, весьма тяжкое. Однако какая благородная миссия для писателя и всей нашей литературы!.. Вам предстоит заполнить огромную лакуну; достойный сожалению пробел, вряд ли простительный для литературы!.. Простите мне назидательный тон. Видите ли, в молодости мне довелось поработать учителем. Я преподавал в здешнем лицее историю и географию. Отсюда и этот наставительный, назидательный тон. Так сказать, профессиональная болезнь… Когда у меня пропал слух и я уже не мог преподавать, пришлось уйти на пенсию. Но учительские привычки остались. Раз в год мне случается выступать с публичными лекциями. Сограждане это терпят и, по деликатности, многое мне прощают. Не знаю, как долго вы будете в состоянии выносить мои разглагольствования?
Читать дальше
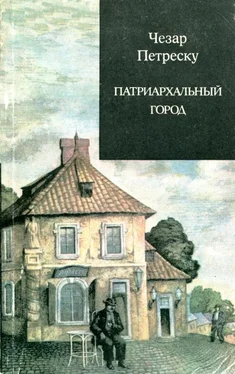


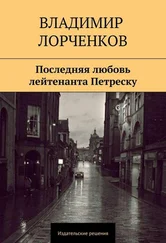





![Чайна Мьевилль - Город и город [litres]](/books/404383/chajna-mevill-gorod-i-gorod-litres-thumb.webp)