Он садится, а Химмельштос исчезает, как комета.
– Три дня ареста, – предполагает Кач.
– В следующий раз мой черед, – говорю я Альберту.
Но это всё. Зато вечером на поверке проводится дознание. В канцелярии сидит лейтенант Бертинк, вызывает нас одного за другим.
Я тоже выступаю свидетелем и объясняю, почему Тьяден взбунтовался. История про страдающих ночным недержанием производит впечатление. В присутствии Химмельштоса я повторяю свои показания.
– Это правда? – спрашивает Бертинк у Химмельштоса.
Унтер юлит, но в конце концов, когда Кропп рассказывает то же самое, вынужден сознаться.
– Почему же никто тогда не доложил начальству? – спрашивает Бертинк.
Мы молчим, он и сам должен знать, есть ли смысл жаловаться в армии на подобные мелочи. И вообще, бывают ли в армии жалобы? Он, видимо, понимает и пока что распекает Химмельштоса, снова энергично разъясняя, что фронт ему не казарменный плац. Затем настает черед Тьядена, который получает солидную головомойку и три дня обычного ареста. Кроппу лейтенант, подмигнув, назначает однодневную отсидку.
– Иначе нельзя, – сочувственно говорит он Альберту. Разумный мужик.
Обычный арест – штука приятная. Арестантская располагается в бывшем курятнике, и обоих можно навестить, мы-то знаем, как туда пробраться. Строгий арест – это подвал. Раньше нашего брата еще привязывали к колоде, но теперь привязывать запрещено. Иногда с нами уже обращаются как с людьми.
Через час после того, как Тьяден и Кропп водворились за решеткой, мы идем к ним. Тьяден приветствует нас петушиным криком.
Потом мы до ночи режемся в скат. Тьяден, конечно, выигрывает, стервец.
Перед вылазкой Кач спрашивает:
– Как насчет гусиного жаркого?
– Недурно, – отвечаю я.
Мы забираемся на повозку с боеприпасами. Поездка обходится в две сигареты. Кач хорошо запомнил то место. Птичник принадлежит штабу какого-то полка. За гусем полезу я, и Кач меня инструктирует. Птичник за стеной, заперт всего-навсего на деревянный колышек.
Кач подставляет ладони, я опираюсь на них ногой и карабкаюсь через стену. Кач стоит на стреме.
Несколько минут я не двигаюсь, пусть глаза привыкнут к темноте. Потом различаю птичник. Тихонько подкрадываюсь, нащупываю колышек, вытаскиваю его, открываю дверь.
Внутри виднеются два белых пятна. Гусей два, это паршиво: схватишь одного, второй поднимет крик. Значит, надо брать обоих; если действовать быстро, все у меня получится.
Одним прыжком бросаюсь к ним. Первого хватаю сразу, а секунду спустя и второго. Как ненормальный луплю их головами об стену, чтобы оглушить. Но, видно, моей силы недостаточно. Твари кряхтят, отбиваются лапами и крыльями. Я ожесточенно борюсь, но, черт побери, сколько же у гуся силищи! Они рвутся из рук, так что я едва стою на ногах. В темноте эти белые лоскутья ужасны, у моих рук отросли крылья, я прямо боюсь, что вот-вот взлечу, будто в лапах у меня привязные аэростаты.
Вот уже и шум поднялся; одна из птиц набрала воздуху и гогочет, ровно будильник. Я оглянуться не успеваю, как слышу за дверью топот, получаю толчок, лежу на земле – рядом яростное рычание. Собака.
Бросаю взгляд вбок, и она тотчас норовит цапнуть за горло. Я немедля замираю, а главное, прижимаю подбородок к воротнику.
Это дог. Проходит вечность, наконец он поднимает голову, садится подле меня. Но едва я пытаюсь шевельнуться, рычит. Я размышляю. Сделать я могу только одно: как-нибудь добраться до маленького револьвера. В любом случае мне надо слинять отсюда, прежде чем сбегутся люди. Медленно, сантиметр за сантиметром, я передвигаю руку.
Такое чувство, что все продолжается не один час. Крохотное движение и грозный рык; замереть – и новая попытка. Наконец револьвер в ладони, но рука дрожит. Я прижимаю ее к земле и командую себе: выхвати револьвер, пальни, прежде чем дог вцепится, и давай Бог ноги.
Я медленно перевожу дух, успокаиваюсь. Потом задерживаю дыхание, выбрасываю вверх руку с револьвером, щелкает выстрел, дог с визгом кидается в сторону, дверь свободна, я кувырком перелетаю через одного из сбежавших гусей.
На бегу быстро хватаю его, одним махом швыряю через стену и сам карабкаюсь наверх. Я еще не перелез, а дог уже опомнился, прыгает, норовит достать меня. Я поспешно переваливаюсь на другую сторону. В десяти шагах от меня стоит Кач с гусем в руках. Как только он видит меня, мы оба бросаемся наутек.
Наконец можно отдышаться. Гусь мертв, Кач мигом с ним покончил. Мы решаем зажарить его не откладывая, чтобы никто ничего не заметил. Я притаскиваю из барака кастрюли и дрова, и мы заползаем в заброшенную сараюшку, которую давно присмотрели для таких целей. Единственное оконце наглухо завешиваем. Там есть нечто вроде очага – лист железа на кирпичах. Мы разводим огонь.
Читать дальше
![Эрих Ремарк На Западном фронте без перемен [litres] обложка книги](/books/411204/erih-remark-na-zapadnom-fronte-bez-peremen-litres-cover.webp)


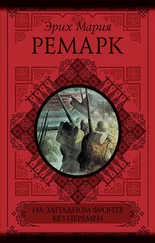

![Эрих Ремарк - Время жить и время умирать [litres]](/books/397303/erih-remark-vremya-zhit-i-vremya-umirat-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Ночь в Лиссабоне [litres]](/books/397375/erih-remark-noch-v-lissabone-litres-thumb.webp)
![Эрих Ремарк - Триумфальная арка [litres]](/books/397376/erih-remark-triumfalnaya-arka-litres-thumb.webp)



