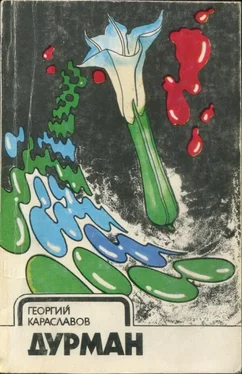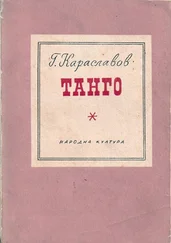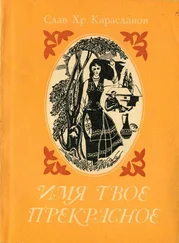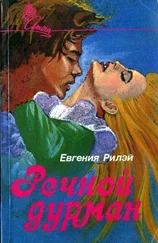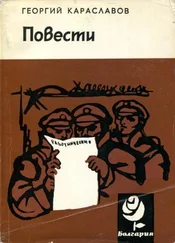— Невестка, — сказала старая Тошке, — принеси-ка немного дровец, что-то мне холодно, да и Ваня с морозу пришел.
И не успела еще Тошка закрыть за собой дверь, как старая тут же начала:
— Ну, что тебе сказал адвокат?
— Ничего, говорит, нельзя сделать, — вздохнул Иван, глядя куда-то в сторону и стараясь изобразить на лице огорчение, — возьмет она все, что ей полагается по закону. Такой, говорит, закон. Лучше, говорит, идите на мировую. А если судиться, все равно ничего не отсудите.
— Не отсудим, — как эхо повторила старая и плотно сжала губы.
Иван ждал, что она согласится с ним, что лучше добром, а не судом, или возразит что-нибудь, но старая посидела на месте, низко опустив голову, потом снова молча взялась за веретено. Хотя Иван не очень разбирался в этом женском умении прясть пряжу, но даже ему бросилось в глаза, что она трижды свивает и развивает одну и ту же нитку. Раз веретено выпало у нее из рук, она, не глядя, пошарила рукой, вздохнула, и наклонилась искать, куда закатилось. Иван пристально наблюдал за матерью, и сердце у него больно сжималось. И лишь когда Тошка вошла в комнату с большой охапкой дров, он поднял глаза. Иван посидел еще немного, обуреваемый тяжкими мыслями, потом откинулся к стене, сел на рогожу и начал медленно стаскивать с ног замерзшие постолы.
— Невестка, завари ему немного липового цвета, — глухо приказала старая, — пусть согреется, вишь, перемерз совсем…
— А сахар есть, мама?
Старуха где-то припрятала немного сахару, поэтому слегка смутилась:
— Поглядеть надо… Поищу пойду… Кажись, где-то было немножко… — И тяжело встала, опираясь на ладони.
Пока Иван ходил в город, старая тешила себя надеждой сохранить имущество в целости законным путем. Как отлегло бы у нее от сердца, если бы Иван сказал: можно. Но он не сказал этого. И она снова крепко сжала губы, в глазах снова застыло прежнее, резкое, холодное выражение. Спасения не было, помочь мог только один дурман… И она снова мысленно обратилась к своему заветному сундуку, на дне которого затаился пузырек со спасительной жидкостью, узелок с мелкими смертоносными зернышками.
На охоте или по дороге в город, но Иван простудился. На следующий день его всего ломило, из носа потекло, боль застучала в висках. „Ничего, пройдет“, — успокаивал он сам себя, но боль не проходила, как он ни старался размяться, растереться. Наконец, он и совсем слег. Женщины засуетились. Ставили горчичники, обкладывали горячими отрубями, отпаивали липовым чаем, старая нацедила стакан красного вина. Поднявшись из подполья, она вдруг вспомнила, что нет черного перца — весь вышел. И свободных денег нет ни гроша. На дворе такой мороз, и ни одна курица не садилась на гнездо. Надеясь отыскать хоть одно яйцо, старая шарила в курятнике, но все без толку: куры забились в угол и не желали нестись. Старуха проклинала их на чем свет стоит:
— Чтоб вы подохли, проклятые! И вы против нас, чумы на вас нет! Всех до одной зарежу…
Но куры не обращали на нее ровно никакого внимания. Тогда старая взяла взаймы у сестры четыре яйца и купила черного перца.
— Худо с Иваном, сестрица, — извинялась она перед сестрой, — а в доме ни гроша…
— Ничего, ничего, — успокаивала ее Кина. — Пройдет, это инфлюэнца, и в газетах писали… Пусть только на холод не выходит, в тепле надо быть.
Иван послонялся недельку в комнате и стал поправляться. И только он поднялся с кровати, заболел Пете. Охает, плачет, весь в огне, горло болит. Старая решила отвести его к Мине Мешковой — „горло заговорить“, но Тошка на дала. Старая косо глянула на нее и, не говоря ни слова, потянула больного ребенка за руку — к знахарке вести. Но Тошка обняла сына, как наседка цыпленка:
— Не пущу! Не дам ребенка!
Старая вдруг поняла, что настаивать бесполезно. Она была даже слегка ошарашена поведением невестки. До сих пор та ни разу не смела возразить или повысить голос. Старуха отпустила ручонку внука и, вся вспыхнув от гнева и обиды, отошла от кровати, побежденная, сраженная своим бессилием. „Ах, ты змея подколодная! Показала наконец-то зубы, а? Выставила жало, а?“ — кипели в ней ярость и злоба. Старая не ожидала такого отпора со стороны кроткой, тихой невестки, не думала, что она может говорить так решительно, прогнать ее от постели внука. Она чуть не захлебнулась желчью, подкатившей к горлу.
Тошка прижала сына к груди, затем уложила его на кровать, закутав шерстяным покрывалом, и только потом бессильно опустилась на постель рядом с больным ребенком. Сколько сил стоило ей отобрать сына у свекрови. Страшное, непосильное для нее напряжение сразило ее, и она вдруг почувствовала себя совсем беспомощной, слабой, беззащитной. Накатила горькая обида, словно обручем, сдавили грудь невыплаканные слезы. У нее едва хватило сил добраться до чулана, там она бессильно повалилась на тюк с тряпьем и зашлась мучительным плачем. Если бы только Минчо был жив, никто бы и пальцем не посмел тронуть ребенка. Да за такое он ни на что бы не посмотрел… Вести ребенка к этой мерзкой цыганке, чтобы она ему в рот свои грязные руки совала?! Да чем-нибудь еще пострашнее заразила?! Нет! Нет!.. Тошка помнила слова Минчо, и если бы уступила сейчас свекрови, он и на том свете бы ей не простил… Она знала, что за этот бунт она жестоко поплатится, просто так это ей не пройдет, но будь что будет… Теперь Тошка окончательно поняла: между ними все кончено. Она слишком хорошо знала характер свекрови: теперь в этом доме ей не будет жизни. Но ради сына она готова была хоть по углям босиком. Проживет как-нибудь и без ласкового слова и сладкого куска…
Читать дальше