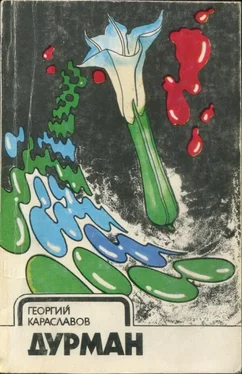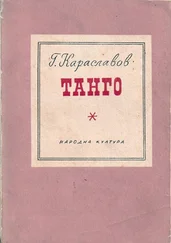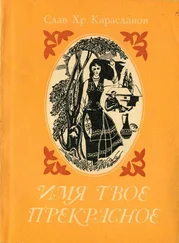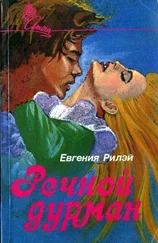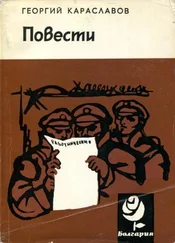Но время шло. Погода испортилась, было холодно, мозгло, дороги развезло, во дворах — грязь непролазная. Иван хлюпал носом, Пете тоже шмыгал, даже старая иногда покашливала, только Тошке все было нипочем, целыми днями она суетилась по хозяйству в своей старой коротенькой шубейке, единственной одежде, оставшейся ей от покойной матери. Мех местами давно вылез, но все же шубка защищала от холода. На ногах у нее были шерстяные чулки толстой вязки, подшитые снизу домашним сукном. Старая с ненавистью глядела на ее шубейку и на чулки, как на своих лютых врагов: „Бережется, сучка поганая! Ножки греет… Ну, погоди, я тебя согрею!“
Однажды Тошка пошла к Димо. А когда вернулась, глядь — шубейка обгорела наполовину.
— Кто же это натворил? Кому понадобилась моя шубка? — заломила она в отчаянии руки, глядя на остатки своей одежды. Пропала шубка! Ни заштопать, ни заплату наложить. В кухне еще пахло паленой шерстью. Тошка просилась к свекрови: — Мама, ты погляди, что с моей шубкой случилось!
Старая глянула и от удивления широко глаза раскрыла.
— Как же это так? Кто же это? — закричала, — я же говорила ему, поганцу, чтоб не играл с огнем, да разве он слушает?
Тошка так и вспыхнула: значит, Пете это натворил?!
Она выскочила во двор и крикнула сына. Голос у нее дрожал, горло сдавили слезы гнева и отчаяния. Это была единственная ее зимняя одежда. Был еще вязаный жакет, но она берегла его и надевала только в гости. Пете отозвался откуда-то из-под навеса. Она застала его сидящим на связках кукурузных стеблей. В руках у него был обрывок бечевки, которой он пытался обвязать два кукурузных початка.
— Ты что тут делаешь? — бросилась она к нему, сжав кулаки.
— Волов делаю, — ответил он спокойно и снова занялся кукурузой.
— Кто тебе, негодник, позволил мою шубку жечь?!
— Какую шубку? — испуганно глянул он на мать. — Никакой шубки я не брал, ничего не прожигал.
Она набросилась на сына, выкрикивая:
— Не прожигал, да? Не прожигал, да? Не прожигал?
И каждый вопрос сопровождался ударом. Сколько раз она его ударила — сама не могла потом вспомнить. Гнев и отчаяние ослепили ее. Удары сыпались на голову, на спину, она била по щекам, по заднице, била вслепую, не слыша его воплей. И когда, задыхаясь от усталости и гнева, она отпустила сына, оттолкнув его от себя так, что он полетел на землю, старуха подбежала к внуку, обняла его и начала ругать сноху:
— Да ты что, невестка, в своем уме? Прибьешь ребенка!.. А напроказил, так и простить надо, дите ведь еще, не понимает… Да ведь и не нарочно он, поиграть захотелось, вот он шубейку-то и надел, а потом забыл, куда бросил… Да дети целые дома, играючи, поджигают, что с них взять, а тут — одежка старая…
— Да это не я, бабушка! — плакал Пете. — Я и в кухне не был и с огнем не баловался… Мамину шубку не брал…
— А-а-а! Значит, не баловался! — снова вспыхнула Тошка. — Не брал, значит! Еще и врешь в глаза! А кто шубку сжег, а? Говори! Кто в очаг сунул?
Постепенно гнев ее ослабевал, она видела его округлившиеся глазенки, такие светлые и чистые — они умоляли ее, они были сама невинность. Она смотрела ему в глаза, и сердце вдруг сжалось от жалости. Она уже начала корить себя за эту вспышку ярости и гнева и столь жестокую расправу с ребенком.
— Да не я это, мамочка, не брал я ее, взаправду говорю, мамочка!
— А, может, правда, и не он это, — вступилась старая, еще крепче прижимая к себе внука. — Котенок, может, затащил… От этих пакостников всего можно ждать… Мне показалось, видно, что Пете там на кухне вертелся, а, может, это и не он был…
— Не я, бабушка, не я, — продолжал оправдываться внук. И крупные, чистые слезы катились по его загорелым щекам. Тошка не могла глаз оторвать от этих слезинок, и каждая из них, как вспыхивающий огонек, обжигала ее сердце.
„И почему я его так избила, бедную мою сиротиночку! — ей впору было и самой разреветься, слезы уже подступали к горлу. — Ну какая я мать! Сердца у меня нет, что ли? Как у меня рука поднялась на ребенка! Было бы хоть за что, а то за такую пустяковину… Проклятые котята! Из-за них чуть было не прибила своего ребенка“. Теперь ей уже хотелось обнять и приласкать сына, попросить прощения… Но нельзя… Да еще и свекровь тут…
Пете все еще всхлипывал, дрожа всем телом и крепко вцепившись в руку бабки. Кукурузные початки, связанные обрывком бечевки, валялись у его ног.
— Ну, пойдем домой, ничего, родной, ты больше не будешь так делать, да? — утешала его бабка и тянула в дом.
Читать дальше