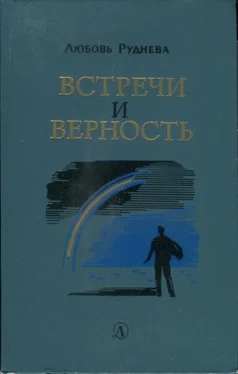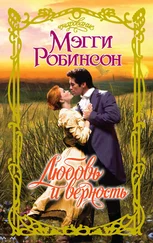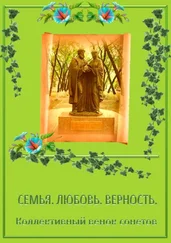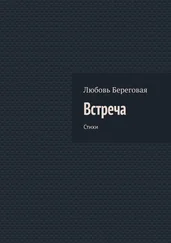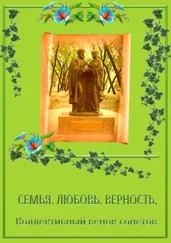— Родом, может, и принял казацкую кровь, только не подпорченную карателями, а ту, вольную, удалую, с которой зачинались казацкие дела.
Эйкин не унимался:
— Какого же звания был твой профессор?
— С девятого года подпольного, потом ссыльного, потом солдатского, а главное — большевистского.
Было заметно, что Василий Иванович уже не берет в расчет наше любопытство. Он сам чувствовал потребность говорить о человеке, видимо понимавшем его, Василия Ивановича, и ту необходимость, которой они оба служили.
— Интересно, — протянул Эйкин, — это он обучил тебя кавалерийским хитростям?
— Нет, тут я сам в учителя записался. Я не о военных знаниях его говорю, другим взял он меня. Сперва, после Февраля, сколотил ячейку в нашем Сто тридцать восьмом запасном полку, потом Советами Николаевского уезда руководил, а как мы завоевали там в декабре прошлого года власть, стал он председателем Совета народных комиссаров, — было и такое у нас…
Но то все должности, а он через них шел все к большему числу людей и с собой забирал все больше людей для революции. С ним Ленина статью читаешь, — он мою жизнь с ней свяжет так, что мне просторно становится. В эту весну я десять раз кряду одолевал «Коммунистический Манифест», — он над одним словом со мной иной раз ночь просидит. Да не в таком кабинете, с кожей, как здесь, а в том селе, где двое суток мы сбивали кулацкое восстание или белоказакам морду намыливали.
И понял я, что вот так и надо революционную войну вести, чтобы коммунизм, который в Европе еще только призрак по вине таких недругов, как наши анархисты, эсеры, меньшевики, — у нас в действительность превращался. И делаем это мы, от Ленина до Чапаева и Шаронова.
Василий Иванович забарабанил пальцами по столу.
— Имя у твоего друга есть? Познакомь, — уже не с любопытством, а крайне заинтересованный попросил Эйкин.
— Есть. Хорошее: Вениамин Ермощенко. Был он делегатом партийного съезда, еще полтора года назад, полулегального, на Выборгской стороне. Его же звали, чтобы всем вместе обдумать, как будет революция в подробностях происходить.
Чапаев махнул рукой и двинулся к двери.
— Нет, мне надо торопиться домой, в дивизию, а не то я совсем тут заболею — совесть мучает. Где я, а где люди мои?!
Снег поскрипывает у нас под ногами. Иней на усах, на ресницах, холодный ветер ледяными иголками сечет щеки. С тротуаров сгребают слежавшийся снег, скалывают лед: мужчина в бобровой шапке, непривычный к лопате, парень в распахнутом армяке, женщина в длинной шубе и маленькая девчонка в красном шерстяном платке. Она вытирает курносый нос кулачком, и через улицу хромающий солдат в обтрепанной шинели кричит ей приветливо:
— Мы, смуленские, упарились ай нет?
Он с трудом везет санки, нагруженные досками, видимо отодранными от какого-то забора. Навстречу мне и Чапаеву бредет длинноволосый старик, несет за плечами связку поломанных стульев.
— Должно быть, для буржуйки, — замечает Чапаев.
Вдруг из форточки, приоткрывшейся на втором этаже небольшого розового особнячка, высунулась обнаженная женская рука с жестянкой и выплеснула на мостовую густую жирную жидкость — остро запахло сажей.
В подъезде дома с колоннами швейцар придирчиво смотрит, как я и Василий Иванович отряхиваем бекеши, обметаем с сапог снег.
Предлагаю:
— Пойдем согреемся чайком.
В столовой Василий Иванович смотрит с любопытством, как, пуская фонтанчиком пузырьки, в морковном спитом чае тает сахаринная таблетка. Приторный чай пахнет химией, и Василий Иванович, отпив глоток-другой, отставляет кружку.
— Может, попросим еще порцию карих глазок? — несмело спрашиваю я.
— Раз съели в обед, нечего по второму разу клянчить, — ворчливо отвечает Чапаев.
А в столовой аппетитно пахнет распаренной воблой, нежно прозываемой «карими глазками».
Поднялись по просторной мраморной лестнице. Большой бурый медведь у входа выглядит как-то грустно.
Чапаев ласково проводит рукой по голове бурого и тихо спрашивает:
— Скучаешь, брат? Охота тебе в лес вернуться?
Проходим по фойе бывшего охотничьего клуба; стены здесь украшены кабаньими головами, рогами оленей.
Василий Иванович бросает на ходу:
— Вот наставили эти благородные рога, а мне еще тяжелее. Уж больно много здесь всего бывшего, как ты думаешь, кавалерист?
В театральный зал энергичной походкой входит преподаватель истории военного искусства, бывший полковник Свечин. Высокий, стройный, сравнительно молодой, он тщательно следил за своей внешностью. На ходу еле заметным движением Свечин поправляет сахарно-белые манжеты и, быстро оглянув развешанные по стенам схемы, стремительно начинает:
Читать дальше