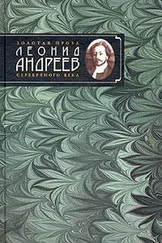— С народом, правильно, не шути.
— То-то и оно. — Дружинин отвел в сторону Чувырина, спросил, как там на стройках, что поделывает Юрий Дмитриевич. — Не пьет?
— Ни-ни, — замотал головой Чувырин, — бросил.
— Послезавтра пойдет третий день, как не пьет?
— В рот не брал с той самой поездки. Я с ним, знаете, что проделал? — В бойких глазах Чувырина сверкнула лукавинка. — Я его, алкоголика, встретил тогда на вокзале и отвез в городскую больницу, к психиатру Бадмаеву: "Лечите стерву гипнозом!"
— Так и сказал?
— Так.
— Без заезда домой отправил?
— Без. Теперь регулярно ходит на сеансы гипноза. А то ведь ерунда получалась: меня за него в хвост и в гриву бьют, в семье у них кавардак, девчушка-дочь отбилась от дома. Теперь все входит в свою колею. И пусть он пропустит хоть один сеанс гипноза! — воинственно закончил Чувырин. — Пусть притронется к стакану с вином!
— Что тогда? — спросил Павел Иванович.
Чувырин перевел дыхание.
— Не знаю, что.
— Договорился парторг! — Дружинин обхватил его по ремню на солдатской выцветшей гимнастерке и встряхнул, как мешок. "Не знаю, что"… Тогда, зимой, "проработал" беспартийного на партийном собрании, теперь заставил человека от алкоголя лечиться. В случае чего, опять придумает что-нибудь, сметка у него есть.
Домой Павел Иванович возвратился поздно. Наташа ждала его, сидела с учебником на диване.
— Как долго, папа, ты заседаешь! Мне даже страшно сделалась в квартире одной.
— Одной? Так весь вечер никуда не сходила? Надо было подружку свою навестить.
— Не пошла. Сперва хотела сходить, а потом раздумала: какая она мне подруга?
— Плохая?
— Ну да.
Прихрамывая, Павел Иванович прошел в комнату и сел рядом с дочерью на диван, осторожно согнул раненную в колено ногу — опять, чувствовалось, болит.
— Так и махнуть рукой, если подружка не очень хорошая?
XVI
Подольский нервничал. И чем больше он нервничал, тем трудней приходилось ему руководить заводом, чем больше трудностей возникало, тем своенравней, взбалмошнее, грубей были его поступки. И раньше упорства и выдержки ему хватало только на определенный срок, а пренебрежением к людям он обрекал себя на одиночество, теперь — в особенности.
Теряя выдержку, Подольский злей прежнего взялся за самое подручное, за приказы. Узнал, что металлизация дороже электросварки, и "прикрыл" ее — неэкономично, старо. Специальным приказом сделал перестановку в руководящем составе сборочного цеха. Приказами одних, поснимал с работы, другим пригрозил — снимет. Место главного инженера завода занял бывший коммерческий директор, даже не дипломированный инженер, зато человек верткий и предприимчивый, умевший "из ничего сделать нечто", как он хвастался сам.
Но из ничего ничего не вышло. На двадцать пятое августа завод едва выполнил две трети месячной программы. По-прежнему оставалось в сборке с полдюжины крупных машин: новые руководители сборочного цеха не могли быстро освоиться с делом. Больше, чем прежде, оказалось брака у скоростников второго механического.
Подольскому казалось — люди вредят. Люди в сговоре с тихим, но хитрым прежним директором. Правда, первый механический Абросимова теперь работал лучше других, но и в этом Подольский усматривал какой-то особый, еще не разгаданный им маневр.
В субботу двадцать девятого августа угроза срыва месячного плана была столь велика, что Подольский, с трудом уломав завкомовцев, приказал перенести выходной день на сентябрь. И этого было мало: чтобы поддержать сборщиков, пришлось обращаться за помощью к начальникам соседних цехов, в том числе к Абросимову.
Разговора со своим предшественником директор больше всего опасался. Вдруг человек заупрямится, встанет на дыбы. Теперь он смелее, чем полгода назад, скажет: "И по выходным-то работать мои токари не обязаны, а идти в другие цеха тем более"… Не хотелось бы с ним скандалить, нарываться на излишние неприятности, ведь стукнет в горком или обком, и пойдут всюду склонять: "авралы", "кампанейщина", "штурмовщина".
Он даже не стал вызывать Абросимова в кабинет, пошел к нему сам. Уединились в цеховой конторке, попросив выйти учетчика.
— Беда, Михаил Иннокентьевич!.. — начал Подольский голосом, полным горя и драматизма. — Трещим по всем швам. Если завтра и послезавтра не сделаем почти невозможной, участь кое-кого предрешена. — Он, конечно, намекал на свою предрешенную участь. Потом он попытался апеллировать к Абросимову, как испытавшему в свое время все трудности директорствования, теперь наступил черед хлебнуть полной чашей горького и ему, Подольскому. Но он не стал бы горевать об одном себе — поставлен на карту престиж всего коллектива, славного коллектива машиностроителей, дорожащих своим именем, своей честью!
Читать дальше