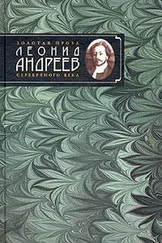— Учатся выговаривать "папа", — зажимая рот, чтобы не рассмеяться, сказала Полина. — Целая история у меня с ними. Сначала называли моего-то дядей Васей; я однажды и говорю: "А он вам, ребятки, теперь не дядя, а папа". Алеша быстренько перестроился и стал называть по-новому; иной раз и ошибется: то "дядя папа", то "папа Вася", но в основном правильно, хорошо, а Толя, замечаю, или не хочет, или не может насмелиться. Мнется, жмется, а все у него по старому получается. Потом замечаю — никак не зовет, даже по-прежнему, дядей Васен, перестал звать. А однажды сердито тычет под локоть братца — тот повторял "папа" да "папа". "В чем дело, Толенька?" — говорю. Молчит. "Ты можешь не звать, если тебе очень трудно, а братику не мешай, ему хочется сказать "папа". — Полина стрельнула быстрыми глазами между колонн. — Вот так и живем, учимся, привыкаем… У самой-то какие новости?
— Никаких.
— Ой ли!
— Да все по-старому, право же. Вот пенсию получила, думаю купить Гале сандалии, а себе сандалеты или босоножки, что попадется под руку в магазинах.
— Неправда! — погрозила пальчиком Полина. — Что-то происходит и у вас, по глазам вижу, так что выкладывайте подробно, без всякой утайки.
— Да ничего не было и нет, — клятвенно произнесла Людмила.
— Трудно выговорить? Как моему Толе "папа"? Ха-ха-ха! Ничего, научитесь! Потом придете, как мы с Васей, в собес и откажетесь от пенсии. "Какая может быть пенсия, — мой-то сказал, — если у ребятишек отец с матерью есть?" Пришли получать собственные деньги в сберкассе.
— Вы, Полина, святая, а ваш Вася… золотой.
— Вы хоть при нем не говорите про золото, еще зазнается. Я-то как-нибудь, а он…
И только теперь Людмила заметила, что по другую сторону колонн прохаживается Вергасов. Она никогда с ним не знакомилась, а в лицо знала, да и портрет видела в газете, когда победили в состязании заводские футболисты.
Теперь Полина подозвала его и познакомила. Вергасов хотел вновь отойти, чтобы дать приятельницам наговориться, жена остановила его:
— Минуточку, Вася! — И принялась поправлять воротничок белой, в голубую полоску рубашки под спортивным серого коверкота пиджаком мужа. Одергивала крылышки воротничка, расправляла цветистый галстук, а сама говорила, обращаясь к Людмиле. — Ничего, милочка, придется когда-нибудь так же и вам. И на одну фамилию распишетесь, и заявление, может быть, куда следует, будете подавать сообща. Раз вместе, так вместе и одинаково! Все, все!
"Все, все!" — долго еще звучало в ушах Людмилы вместе с мелодичной трелью веселого Полининого смеха. "Конечно, все вместе и одинаково, — думала она, пробираясь домой, — иначе зачем же кому-то с кем-то связывать жизнь". Все, все! Но теперь эти слова имели для Людмилы не прежний, иной, новый смысл.
Радостью наполнялось ее сердце после каждой встречи с Полиной. Ничего та будто бы не советовала, ни к чему не звала, а разговором своим внушала: самое лучшее, самое прекрасное — жизнь и прожить ее надо не под луной, а под солнцем — живи, радуйся свету; живи, не пряча, не заглушая своих желаний и чувств, если они человечны, их не спрячешь, не заглушишь; живи, работай любя, ведь ты человек, женщина, любя, ты только остаешься сама собой.
От главпочтамта Людмила свернула на улицу, что вела к парку машиностроителей, и пошла по солнечной стороне. В глубине улицы висела Голубоватая дымка. Мягко шелестели на ветру тополя. Удивительно: не прошло и пяти дней, как начал опушаться лес, а тополевый лист уже крупный. Теперь северная природа торопилась, природа спешила жить в полную силу, потому что лето коротко, а холодная зима велика.
Заторопилась и Людмила. Домой, домой! В этот момент ей явственно представилось, что там, на Пушкинской улице, в цветущем садике, на скамье, сидит-дожидается Павел Иванович и она должна не идти, не бежать, а лететь.
XIV
— Как здоровье-то? Ничего?
— Нормально. — Дружинин пожал плечами: что за беспокойство о его здоровье, второй раз спрашивает — как? — С весны поболел немного, отлежался.
— Подремонтировался? — На сухих, бескровных губах Рупицкого проступила еле заметная улыбка. Секретарь горкома побарабанил крючковатыми пальцами вытянутой руки по гулкой, оклеенной коричневым дерматином фанере письменного стола. — Говорил Абросимов, как ты пластом свалился тогда, как врачи поднимали тебя своими домкратами. И Кучеренко рассказывал. Отпуск не собираешься брать?
— Двух в году не положено, был в отпуске зимой.
— Кажется, в Белоруссию съездил?
Читать дальше