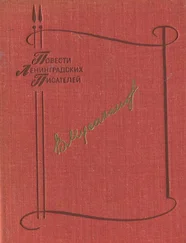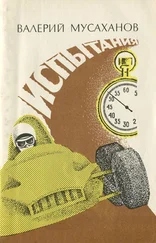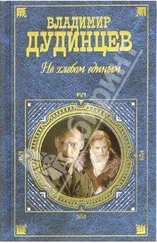Рассеянный свет клал золотистые блики на их чуть игрушечные головки, на яркие губы и поблескивающие лаком ногти… Да, то были дорогие девушки, и я хорошо знал этот сорт.
Цуканов неотрывно смотрел на них через свои толстые очки, на кончике носа у него выступили капли пота. Я усмехнулся.
— И кто только спит с такими? — растерянно и восхищенно спросил он, сняв очки и протирая стекла.
— Тот, кто платит, — ответил я тихо.
— Да ну, ты скажешь. Они совсем не похожи, — недоверчиво отозвался Цуканов и прищурился на меня удивительно маленькими без очков глазами.
— Ты не понял, Витя. Платить надо за все — чувствами, восхищением, безразличием, удачливостью, а иногда и деньгами. А вообще, спят с ними только те, кто их чуточку презирает, — скривившись от сигаретного дыма, попавшего в глаз, я погасил окурок в пепельнице, небрежно заметил: — И вообще, все это декорации, а на самом деле… бывает, что какая-нибудь дворничиха в сто раз интереснее.
Я сказал это и почувствовал грусть и еще теплую зависть к Витьке Цуканову. Он был младше меня на десяток лет, этот подслеповатый слесарь, тактичности которого следовало бы поучиться многим, мнящим себя интеллигентами, и я тепло и грустно завидовал ему за то, что в нем не умер и, видимо, никогда не умрет наивный реалист. Таращась через толстые стекла очков на дорогих девушек, Витька воспринимал свои чувственные впечатления как правдивую информацию. Он не сознавал, что нет способа установить, является ли его личное впечатление об этих девушках таким же, как впечатление другого человека, и что даже само слово «таким же» не имеет смысла, что любой индивидуальный опыт не имеет объективного и подтверждаемого смысла. И только поэтому человек может быть счастлив, может находить доступную своему пониманию красоту… Одиноко стало мне в теплом, уютном и тихом «Погребке», знание не делало меня счастливее, и в душе гнетущей тяжестью возник беспокойный бессловесный вопрос… Я уставился в столешницу неподвижным взглядом. Цуканов все смотрел на девушек и не мешал мне грустить. И вдруг мой беспокойный, тянущий тяжестью душу вопрос взорвался словами: «А как же Наталья?!»
И я увидел ее на фоне фисташкового кухонного кафеля и с ноющей горестной болью впитывал свет ее серых глаз, полных укоризны и детской надежды. Вглядывался в знакомое, но каждый раз поражающее, по-новому волнующее искренностью и красотой лицо и немо спрашивал себя: где здесь правда? Может быть, я, как Витька Цуканов, не дыша глазеющий на соседний стол, тоже — наивный реалист, считающий свое чувственное восприятие незыблемой объективностью? Значит, я так и остался тем загнанным подростком, двадцать три года назад смотревшим в лицо и глаза другой девушки в полутьме чердака над каретным сараем, — тем растерянным подростком, которого инстинкт самосохранения заставил доверить, что и через годы он увидит то же лицо и глава той же девушки, поверить, что время возвращается или — что его вовсе не существует? Значит, я все тот же уголовник, почти пятнадцать лет назад, шевеля губами, читавший Гегеля на высоком, поросшем мелкой ольхой берегу реки и веривший в возвращение, в отпущение грехов? Но время не возвращается и никуда не уходит. Оно просто съедает того, кто пытается противостоять, и каждый год — это Змей Горыныч о трехстах шестидесяти пяти головах…
Официантка поставила перед нами тарелки с румяными эскалопами и горкой зеленого горошка. Цуканов снял очки и начал есть. Я усмехнулся и ощутил себя почти счастливым тем спокойствием безответственности, которое знакомо только проигравшимся в прах.
Только сейчас с печальной растроганностью я осознал, что сегодня утром на моей кухне было признание, Признание сильной и самостоятельной девушки, которой можно верить, потому что в ней богом или дьяволом заложено то, что превыше разума и знания, превыше самой красоты, то, чего почти никогда не бывает на свете, — чистопробная женственность.
Если вам не семнадцать лет от роду и вы много страдали, а значит, думали и чувствовали, то у вас остается совсем мало чаяний. Вы, как обгоревший печной стояк, живете на пепелище своего прошлого, и великая, быть может, самая человечная и мужественная мысль, что «на свете счастья нет, но есть покой и воля», становится вашей, даже если вы никогда не открывали Пушкина. И вы стремитесь к покою и воле, стараясь отыскать их на доступных путях.
Наш век на старости лет помешался на движении. И люди поздоровее и помоложе лазают в бездонные горные пропасти, карабкаются на высоченные горные пики или низвергаются через пороги бурных рек на утлых тряпичных байдарках — делают то, чего лучше не делать, что гибельно и глупо. Это тоже — «покой и воля».
Читать дальше