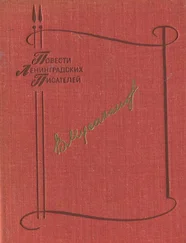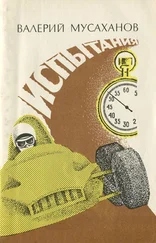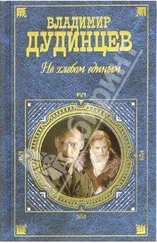Я вышел со двора и направился к матери.
Дом был построен с претензией на роскошь, и, вероятно, в прошлом веке его квартиры сдавались зажиточной интеллигенции. После октября одна тысяча девятьсот семнадцатого здесь тоже селилась интеллигенция, преимущественно врачи, потому что дом каким-то образом принадлежал Паркомздраву.
Длинные анфилады стали коммунальными квартирами. Высокие двустворчатые двери, соединявшие комнаты, закрыли, пробили в задних стенах маленькие двери в узкие темные коридоры, по которым раньше ходила только прислуга; большие залы разгородили прямо по вычурной потолочной лепнине, и началась та жизнь, которую я и застал, появившись на свет в этот самый день сорок лет назад.
Я вошел в широкую парадную, в дверях которой еще сохранились толстые зеркальные стекла с большими фасетами и травленым матовым узором из листьев и цветов. Стекла пережили революции, войны и многих жильцов… С самого детства я не мог избавиться от инстинктивного страха перед прочностью вещей, мне всегда казалось, что дома, колонны, ограды, всякие бронзы и мраморы живут какой-то своей, отдельной и независимой жизнью и лишь снисходительно взирают на людей, таких хрупких и временных. Я и теперь испытываю суеверный трепет перед какой-нибудь старинной финифтяной табакеркой или книгой в затвердевшей и бурим с им ной коже. Истлели и давно рассыпались в прах сотни и тысячи рук, создавших эти вещи и прикасавшихся к ним, а вещи живут, и столетие для них значит не больше, чем час в человеческой жизни. Меня всегда угнетало это могущество человека, создающего предметы, способные пережить его, и вместе с тем малость отдельной человеческой жизни перед временем. И на лестнице моего родного дома я всегда испытывал одно и то же ощущение острого и прохладного сквозняка в груди, будто само время неслышным пронзительным ветром проходило сквозь меня.
Я постоял, оглядывая просторный парадный вестибюль. С камина уже содрали мраморные резные плиты, и он выступал из стены большим оштукатуренным квадратом с полуовальным жерлом посередине — беломраморные ступени потемнели и стерлись до овальной вогнутости, но стенная лепнина и кессоны потолка еще держались, напоминая о былом великолепии. И дверь швейцарской в правом углу, хоть и основательно исцарапанная, была из благородного, золотисто искрящегося красного дерева… И кроме сквозняка времени, проходившего сквозь меня, грусть и тихое разочарование испытывал я всегда, входя в этот вестибюль: почему-то в памяти, в воображении он всегда казался роскошнее и больше. Этот разрыв между явью и воображением впервые обозначился тринадцать лет назад.
Я возвращался из мест не столь отдаленных. Был бесснежный февраль, и площадь Восстания, на которую я вышел с Московского вокзала, темнела сухим асфальтом; небо оловянной фольги без единой морщинки висело над сумрачным Невским.
В стеганой ватной телогрейке третьего срока и такой же ушанке, в разбитых кирзовых прохорях, с парусиновым самодельным заплечным мешком, как беженец, стоял я на площади своего родного города и потерянно всматривался в лица прохожих.
Если вам двадцать семь, а за спиной уже десяток лет колоний, то, освободившись, вы прежде всего чувствуете страх перед будущим. Так, оказывается, бывает: вы чувствуете страх и одновременно облегчение, оттого что тяжелый и голодный кусок вашей жизни позади. И, глядя на женщин, которые все сплошь казались красавицами, глядя на цветной поток легковых машин, на эти годны людей, идущих куда им вздумается, я наконец почувствовал тоску по дому, по нашей с матерью комнате, по нашей лестнице с роскошным вестибюлем, по невзрачным домам нашей улицы, и острая горячая жалость к самому себе шевельнулась в груди.
Я не считал себя великомучеником и не думал, что мир задолжал мне на десять лет вперед, но я знал, как тяжко придется мне помытариться, чтобы удержаться в этом мире без конвоев и поверок. В кармане холщовых штанов лежал у меня паспорт, выданный на основании справки об освобождении. Форма эта была хорошо известна всем отделам кадров страны, и потому я понимал, что ждут меня впереди не розы. И тем острее и горше было первое свидание с городом окрашено цветом печали, который делает все во сто крат прекраснее и дороже. И торопливым и робким шагом я пошел домой.
Вот тогда, тринадцать лет назад, я испытал первое разочарование, как только открыл дверь парадной и вошел в вестибюль. Он, действительно, был красив и просторен, этот вестибюль дорогого доходного дома, — глубокой матовой белизной холодели кессоны потолка и лепнина, благородно лоснился резной мрамор камина. Но все-таки в моем воображении вестибюль был роскошнее и больше, И мраморная белая лестница была не такой уж широкой, какой виделась в памяти. Наяву все словно съеживалось, уменьшалось, — и радость освобождения была совсем не такой сильной, как мечталось когда-то, когда до конца срока оставались еще годы. С тех пор все эти тринадцать лет повторялся один и тот же фокус: как только я входил в парадную, меня охватывало чувство недоуменного разочарования. Я никак не мог забыть того воображаемого вестибюля. Действительность подменяла его более тесным и тусклым.
Читать дальше