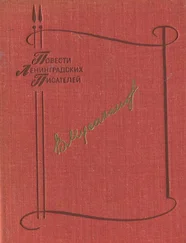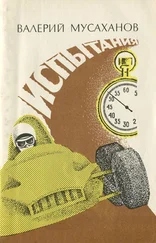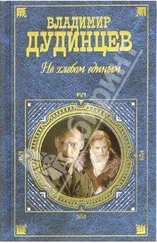Потом я встречал его, он долго ходил с черной повязкой и здоровался при встрече. А тогда меня отправили в колонию. С детьми арестованных не очень-то церемонились, но я, правда, промолчал про финку Губана. Выпустили меня через два месяца. Киркина мать пришла к прокурору и рассказала про финку. Но из колонии я вышел уже другим человеком.
Быть может, тогда, когда из-под ладони Губана хлестала кровь и заливала его толстые, беззвучно шевелящиеся губы, во мне исчезло чувство страха. Нет, не точно, — пожалуй, не чувство страха, а что-то другое. Это смутное и опустошающее ощущение освобождения от чего-то важного, соединявшего меня со всеми: с маленьким белобрысым Хрычом, попавшим под разрыв гранаты; с Буськой и Киркой, оставшимися моими друзьями; с Губаном, поднявшим на меня свою неказистую финку; с одноклассниками и учителями, с базарными торговками и постовыми милиционерами.
Подняв тот окатанный осколок кирпича, я как бы перешагнул невидимую, но существующую межу и оказался вне закона. Я понял, что мир безжалостен ко мне и может убить, но пока он еще не убил меня, и для того, чтобы это произошло как можно позже, дозволены теперь любые средства, и у меня развязаны руки, и никакая расплата за укол ножом, за плевок в лицо, даже за косой взгляд не будет чрезмерной…
Кровь хлестала из-под ладони Губана, прижатой к глазнице, и заливала подрагивающие беззвучные губы, а эта страшная и простенькая мысль уже бессловесно завладела моим тогдашним полузвериным сознанием, и в душе разверзлась блаженная дикарская пустота безморальной свободы. Мир был волен убивать меня каждый день, но я был свободен защищаться от него любыми доступными средствами…
— Что, Леша, сердце прихватывает? — старательно выговаривая слова, Хрыч участливо смотрел на меня, серое пепельное его лицо чуть порозовело на скулах.
— Да, сердце, — чтобы не пускаться в объяснения, согласился я.
— У меня тоже, как зашкалит, бывает, не дыхнуть, но если еще сто грамм прихвачу, то помягчает и уж потом ничего. — Он поерзал на стуле, зябко передернул плечами и долгим взглядом выцветших лиловатых глаз гипнотизировал пустой стакан.
— Стареем, — усмехнулся я.
— А может, еще бутылочку красноты? У меня есть, полтинник только добавь. — Глаза его снова приобрели заискивающее и наглое выражение.
Я встал.
— Нет, в другой раз, Хрыч. А ты валяй, добавлю, конечно.
Мелочи у меня уже не осталось, и пришлось разменять четвертной билет у буфетчицы. Я протянул Хрычу рубль. Спросил, как живет Губан теперь.
Мы вместе вышли из пивной и разошлись в разные стороны. Через несколько шагов я обернулся и посмотрел ему вслед.
В зеленой, почти детской потасканной нейлоновой курточке, ковыляя на искалеченной осколками немецкой гранаты ноге, по бывшей Надеждинской улице уходила часть моего прошлого. Красные большие руки нелепо торчали из рукавов, и в правом кулаке были зажаты гроши на бутылку мерзкого, ядовито-красного портвейна.
Я проводил его взглядом до дверей магазина, подумал, что, быть может, мы не встретимся больше никогда, и зашагал к дому, где жила мать. Дойдя до дома сорок, я не удержался и свернул во двор. Пустынно и холодно дохнул на меня неуютно-просторный сквер с черными обтаявшими газонами, обрамленными куцыми прутьями кустов. Мокрые синие скамейки стыли в медленно подступающих ранних сумерках, и горькое уныние захватило меня от неприютности этого дворового сквера. Раньше здесь высились два желтых флигеля, объединенных перемычкой кирпичного сарая для хранения карет. На односкатной, тронутой ржавчиной крыше сарая шалашиком торчало слуховое окно, к нему вела отвесная железная лесенка, прилепившаяся в простенке между воротами с тяжелыми брусовыми створками, подвешенными на черных кованых петлях.
Зимой сорок первого — сорок второго в сарай стаскивали трупы умерших на улице, а ранней весной, когда объявили общегородской субботник для очистки города, трупы, смерзшиеся, черные, как дрова, штабелями грузили на две полуторки, и даже дети не пугались их вида — в этих уплощенных, угловато изогнутых предметах, покрытых темно-бесцветными лохмотьями, не оставалось уже ничего живого, лишь войлочно свалявшиеся волосы сохраняли свой цвет. В холодном кирпичном нутре сарая долго еще потом стояла пронизывающая могильная мгла. Но все это не действовало на мое тогдашнее воображение и не помешало превратить чердак каретного сарая в тайную базу. На чердаке я прятал книги и старые журналы, добытые в разбомбленных домах или украденные на барахолке, здесь я поедал хлеб, который давала мне девочка с длинными тревожными глазами, где в синей эмалевой глуби райков вспыхивали грозовые искры. Здесь я впервые поцеловал ее перед трехлетней разлукой и решил, что буду любить всю свою жизнь. Сюда я привел ее через три года, снедаемый болезненным желанием, наслушавшийся в колониях похабных разговоров, и грубо, неумело и дико овладел ею. И потом водил ее сюда целых три месяца, испуганно притихшую, отчужденно-покорную, словно выплачивающую долг…
Читать дальше