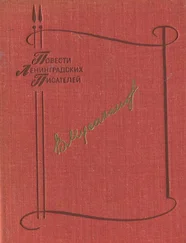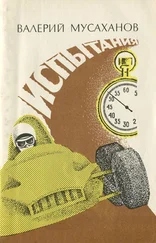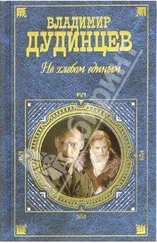Да, им безразлично — этим клеточкам в вашем мозгу, они зафиксируют что угодно, и только иной частью сознания вы можете сравнить одно с другим и различить низкое и высокое, и, быть может, тот маленький сгусточек клеточек, который различает и сравнивает, это и есть вы — ваша свободная воля, ваше человеческое «я».
Кажется, я еще не разучился различать и сравнивать и поэтому быстро собрал разъемную секцию батареи, предварительно засунув в нее сверточек в шуршащей бумаге. А перед мысленным взором (или где-то там, где ему положено) светилось прекрасное лицо Натальи.
Я прятал шведский ключ под плиту, ставил на место стол, одергивал штаны и поправлял пиджак, но та маленькая шайка клеточек, которая различает и сравнивает, безжалостно делала свое скрытное дело, и от этого мне было больно, словно кто-то медленно втыкал в левое подреберье горячую тонкую иглу. Пошарив в кармане пальто, я нашел сигареты, закурил, бросил пальто на пол, сел на табуретку и скорчился, почти касаясь подбородком колен. Игла вошла до конца, уже не чувствовалось боли, а только тепло. Такое тепло приходит, когда уверенная рука спокойным, почти ласкающим движением всунет в живот хорошо заточенный нож, — вы ощутите короткий укол, потом тепло и еще почувствуете недоверчивую, удивленную растерянность: специалисты никогда не прилагают чрезмерного усилия, непринужденность — главный признак профессионализма. Пару раз я на собственной шкуре испытал это и теперь, скорчившись на табуретке, с ужасом обреченного ждал, пока ощущение тепла превратится в жгучую боль. Чудовищная тишина сжималась в квартире, и, как последний всплеск сознания, передо мной все стояло ее лицо.
Согнувшись на табуретке, я курил, не чувствуя вкуса сигареты, исподлобья рассеянным, бессмысленным взглядом смотрел на стену из фисташкового кафеля, декорированную длинной гроздью стручков кроваво-красного перца и связкой нежно-золотистых крупных луковиц, — контрастное сочетание этих цветов угнетало зрение.
Я понимал, что все через минуту пройдет. Если вы дожили до сорока лет, это значит, что не всякий удар ножом смертелен, но у вас было время убедиться, что каждый такой удар оставляет шрамы навсегда. И еще вы знаете, что некоторые вещи ранят не хуже ножа и тоже навсегда оставляют болезненные рубцы.
Я понимал, что через минуту пройдет все: и ощущение горячей иглы под ребром, и гнетущая резкость кроваво-красных и нежно-золотистых тонов на фисташковом фоне, и предсмертная тишина в квартире, но я знал, что лицо Натальи, то лицо, которое я увидел в щелку воровски приоткрытой двери, никогда не изгладится из памяти и время от времени будет вставать перед мысленным взором и травить едкой тягучей болью. Потому что на этом лице я прочитал все, о чем несчастным зеленым юнцом мечтал бессонными ночами Я мечтал обо всем, что прочитал на ее самопогруженном лице, — о доброте и душевной тонкости, о самоотверженной преданности и чистоте. Я грезил об этом одиноким, зеленым, несчастным юнцом, и я перестал верить в это, прожив на свете сорок лет. Но вот, изверившийся и желчный, вдруг увидел свою мечту в щель воровски приоткрытой двери…
В юности вы всегда мечтаете и воображаете себе Женственность, не думая, возможна ли она в мире, не противоречит ли ее существование жизни. Вы создаете женщину из себя, и вот без ребра вы пускаетесь в путь. Невнятность маскарадных улыбок скрывает подлинность лиц, а вы жаждете понимания и с первых шагов чувствуете одиночество души. Вы бредете в тумане неведенья, под всеми ветрами и ливнями, и случайно сталкиваетесь с женщиной. Она, улыбаясь, протягивает вам руки, и вы думаете, что перед вами вымечтанная Женственность. Но улыбка принадлежит маскараду а по руке не узнать, кто встретился вам на пути, только в старину по руке пытались предсказать судьбу…
Я не слишком поздно понял, что тех женщин, которых мы придумываем, не бывает на свете, — встречаются лишь частичные соответствия. И мне в юности встретилась девочка с лицом, словно вылепленным из драгоценного полупрозрачного фарфора, с длинными тревожными глазами, где в синей эмалевой глуби райков вспыхивали грозовые искры. И я сразу решил, что это — Она, и потом, в разлуке, любил ее долго и безмолвно.
Впрочем, грех хулить судьбу, потому что ее выдуманный образ спасал меня тысячу раз (может, для этого и нужна мечта?). Она помогла пережить унижения, даже голод. В отличие от реальной женщины. Она не изменила мне, ни разу не нахмурила брови, не была раздражительной, усталой и мелочной. Она не могла дать только чувственного тепла, но согреться можно у любого огня, и я протягивал руки к случайным огням, согревался и уходил, не испытывая ни сожаления, ни потребности оглянуться, и считал себя неуязвимым, как памятник. Но и хорошая бронза дает трещины, — время сокрушает даже памятники, и я, скорчившись на кухонной табуретке, чувствовал себя сокрушенным…
Читать дальше