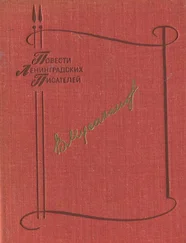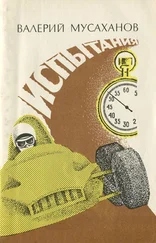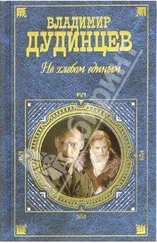— Да что я тебе сделал? — вырвалось у меня в сердцах.
— Ты еще спрашиваешь? — вкрадчиво сказала она.
— Знаешь. — я встал, — ты, кажется, не в себе. Это понятно, по… Словом, разговаривать в таком тоне мне не хочется. Оставим до другого раза. Мне тоже сейчас нелегко.
— Ах, нелегко?! А другого раза не будет. Я надеюсь, что больше не увижу твою мерзкую ханжескую рожу. Поэтому слушай. Сядь! — Она положила на стол побелевший сжатый кулак.
Я сел, нарочито шумно вздохнул.
— Вспомни-ка чердак в доме сорок, — она прищурилась. — Вспомни, как ты использовал меня, как последнюю суку. Да! Ты был нрав. Ты имел на это право — пострадавший изгнанник. Все задолжали тебе тогда. А ты подумал, что будет со мной? Тогда, двадцать лет назад? — Лицо ее стало брезгливым.
Я не смог удержать улыбки, встал и сказал:
— Ну, извини, что тогда я не мог предоставить тебе кровати, а потом уже не было случая, — я направился к двери, но она вскочила, заступила дорогу.
— А знаешь, что у меня был сын?
— Что-о? — У меня мгновенно пересохло в глотке.
— Да! Твой мальчишка. С этой вашей щербаковской меткой. Здесь, — она больно ткнула меня твердым пальцем под шею, слева над ключицей, где была родинка.
— Инна! — Я схватил ее за плечо, она охнула от боли, и я разжал пальцы.
Она вдруг ссутулилась, словно сломалась, сделала шаг в сторону, села, навалившись грудью на стол.
Оглушенный, я сделал два неуверенных шага и опустился на свой стул у окна. Руки и ноги стали сразу чужими, бескостными.
— Как это было? — ощущая свинцовую усталость, спросил я.
— Очень просто, — удивительно насмешливым голосом ответила она, но я побоялся поднять глаза. — Это у тебя все с философией, а у меня просто через пять месяцев пузо до носа выросло… Потом отец в ноябре умер. Мать почти сразу запила, а на мне даже пальто не застегивалось, так и торчала в сквере на углу Некрасова в расстегнутом пальто, потому что от разговоров и табака меня выворачивало. Такая была безнадега, что хоть под трамвай, — голос мачехи потерял краски, стал монотонным. Слова шуршали тихо и глухо, словно листы пожелтевших старых газет…
Я сидел, уставясь в линолеумный кухонный пол, и внутренним взором видел угловой скверик на перекрестке поэтов — памятника Маяковскому в нем еще нет, — и среди старых, чахлых заснеженных деревьев стоят дощатые облезлые скамейки. Я видел, как, широко расставив колени, некрасиво сидит девушка с неподвижным, чуть оплывшим лицом и старое пальто не сходится на круглом большом животе. А рядом скрежещут трамваи, хлопает дверь продуктового магазина; от зимней оттепели дневной воздух влажен и мглист. Девушка смотрит перед собой невидящими, чуть сумасшедшими глазами и не замечает остановившегося перед ней высокого худощавого человека в новом дорогом пальто. Человек наклоняется, берет ее за руку, говорит низким, богатым оттенками, властным голосом проповедника:
— Я — отец Алеши Щербакова. Пойдем, будешь жить у меня.
И девушка молча поднимается. Высокий человек берет ее под руку…
Монотонными, глухими, шуршащими, словно листы пожелтевших старых газет, словами мачеха рассказывала, как они жили в одной самой маленькой комнате этой квартиры, как родился ребенок, а у отца открылась тяжелая кровоточащая язва желудка…
— Боялся операции, потому что у него была стенокардия. Когда стало совсем плохо, сказал, что я должна выйти за него замуж, тогда хоть комната останется мне… И деньги он какие-то получил, когда освободили…
Монотонный голос ее словно читал протокол.
Операция была удачна. Потом вышла замуж ее мать и, уехала на Север. Она поменяла квартиру с соседями отца… Ребенок умер в полтора года от тяжелой желтухи…
Я сидел раздавленный усталостью и тупой пустотой, и в кухне стояла гнетущая тишина.
— Я любила его! Он был добрый человек, — вдруг сказала мачеха, и голос ее обрел краски.
Я молчал.
— Любила! Понял? — выкрикнула она.
— Понял, — ответил я тихо и спросил: — Как звали ребенка?
— Петя, — ответила она и заплакала в голос.
Я встал.
— Подожди, — повелительно сказала она, пальцами смахнула слезы в углах глаз и вышла из кухни.
Я закурил, сделал несколько шагов, ноги подгибались.
Мачеха вернулась с черной коленкорового папкой, протянула мне.
Я посмотрел на завязанные бантиками тесемки, почувствовал тяжесть в руке.
— Это его бумаги. Я не хочу этого знать. Не хочу рассуждений вместо жизни, — она закрыла глаза и прижала ладони к вискам, со стоном сказала: — Уходи.
Читать дальше