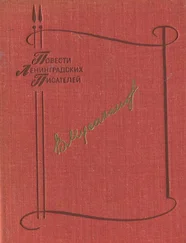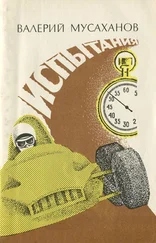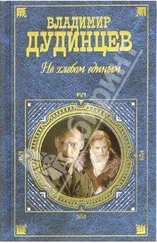Тот, у кого за спиной хоть один такой августовский, раскаленный танковым зноем день, по-другому ощущает право на жизнь…
Руку дядька потерял уже в конце сорок четвертого под польским городком Сандомиром…
Он сидел передо мной с еще красным распаренным лицом и влажными после бани, сивыми, как жесть, волосами, зажав в единственной левой руке граненую стопку с водкой.
— Ну давай, дядь, по последней, раз ты бросил, — сказал я.
— Да деваться некуда было, вот и бросил. Ну давай, — он резко запрокинул голову, открывая сильную красную шею.
Я тоже выпил, поставил стопку и посмотрел на него.
— Да что говорить, Алеша, судьба, она по-разному поворачивается, — начал дядька, глядя мне через плечо. — Сам понимаешь, вернулся в сорок пятом — одна шинель да сапоги. А тут, в Щербаковке, немец хоть и не пожег ничего, но всю скотину извел. Обнищали, голодуха, бабы с пацанами только с леса кормились ягодами да грибами, картошку сажали. Сорок дворов было тогда, семь мужиков вернулось, а целых — трое. Ну, перезимовали с матерью. А в сорок шестом брат помог, купили телку у эстонцев. Думали, оклемаемся потихоньку. Косарь-то из меня, сам понимаешь, никакой, но накосили вместе с матерью, думали — дотянем до весны, свезли, свершили стожок, а он сгорел в зиму. Может, кто поджег, а может, из трубы сажу горящую вынесло. Трубы-то всю войну не чистили. Ну, коровенка наша стала доходить. Вот я в Новый год ночью и запрягся в сани… Выпивши, конечно… Тогда колхоз был в Айкино — километра два. Наметал сноп — и обратно. Ну, оно всегда, как на грех… Меня на дороге ихний председатель и накрыл с бабами… В драку кинулся. Злой тогда был, горячий. К инвалидности привыкать трудно… Вот с тех пор не пью, — дядька умолк, опустил голову. — Да что вспоминать, — он поднял голову, улыбнулся, потом посмотрел в окно, спросил: — Приляжешь с дороги-то?
— Нет, спасибо. Пойду пройдусь до залива, — ответил я.
— Сапоги надень мои резиновые. Мокро там. Не дойдешь в ботиночках. А я полежу. Упарился и вот выпил, — он провел широкой ладонью по жестяным волосам.
Солнце ела пробивало белесые облака, и передо мной качалась бледная короткая тень. Я шел вдоль домов Щербаковки — то веселых, крашенных по вагонке синью, с белыми наличниками окон; то хмурых, чернеющих старыми мощными срубами. Здоровались со мной встречные люди, хотя я не знал никого. Я шел вдоль коричневого склона глубокого кювета шоссе почти прямо на север. Деревня кончилась, и слева, на взгорке, среди прозрачных голых деревьев показалась почерневшая, с прохудившейся сквозной маковкой церковка и кладбище, но я не свернул по еле заметной после сошедшего снега тропке, решил, что дойду до залива, а на кладбище заверну на обратном пути.
Я шел в изжелта-белом апрельском свете туда, где низкое небо синело над заливом, и ничто не волновало меня. Я словно забыл о своем решении, о том, что приехал прощаться, и ни о чем не думал, лишь смотрел на мокрые луга, почти чистые от снега, на маленькую рощицу высоких стройных рябин на дальнем краю озимого поля. Нигде больше я не встречал такой сплошной и чистой поросли рябин. Под осень рощица горела гроздьями ягод так, что, казалось, небо краснело над ней, а сейчас она была прозрачной, как воздух, — тонкие ветви издали воспринимались как редкий туман, только внизу различались прямые древесные стволы.
Я поднимался все выше. Поля кончились, и начался ельник с примесью дубов. Дорога здесь была грунтовая, узкая и мокрая. Дядькины сапоги оказались кстати. Я прошел неширокий ельник насквозь, и внизу открылась грустная даль залива, забитая обгрызенными льдинами; над разводьями с пронзительными криками вились чайки. Было уныло и бесприютно. Я почувствовал, что зябну, и повернул назад. Я не нуждался в долгом прощанье с миром, потому что мир мой был узок, как щель.
Я возвращался быстрым шагом я не повернул на кладбище. Державшаяся на моем тайном решении связь с миром уже оборвалась, и мне захотелось уехать сегодня же. Но, взглянув на рябиновую рощицу, как облако серого тумана стоящую на дальнем краю озимого поля под белесым небом, я почувствовал слезливую пронзительную детскую нежность к этой унылой земле, где веками жили крестьяне, кормились и бедствовали. И оно пришло, чувство того времени, о котором я не помнил решительно ничего, кроме ощущения счастья. Это чувство возвращало к поре, когда я был беспомощен, но ничего не боялся.
Я стоял на обочине, мутными от слез глазами смотрел на мокрую озимь и сквозную рябиновую рощу за ней и чувствовал теплоту, растроганность и горестное удивление…
Читать дальше