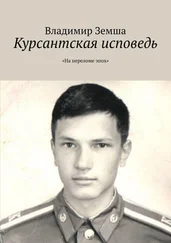Торопливо подсчитав изготовленную за день продукцию, Андрей Павлович остался доволен: двести два процента. Такого давно не бывало. Правда, он не обедал. И час прихватил сверх нормы, но дело не в этом, не сожалел, а радовался Лукашин, дело было в процентах: теперь пусть Падушев да и остальные подумают, от кого они отказались. Кого послали на пенсию. А месяц только начинается! И цеху, думал Лукашин, как пить дать, придется очень и очень нелегко. Предвкушая большой сыр-бор, который вскоре разгорится из-за дефицита по плашкам, он снова воспрянул духом и в мыслях твердо надеялся, что и на этот раз в цехе без него не обойдутся. Еще неизвестно, как будет работать приспособление.
С этой, успокоившей его раненое самолюбие мыслью, Лукашин поочередно выключил станки и тщательно стал прибирать их, стараясь не оставлять за собой следов неряшливости. Потом он сложил все детали на стеллаж и, с новой силой осознав, что это все, все (!), что это конец его почти сорокалетней работы в цехе, Андрей Павлович облокотился обеими руками на тумбочку и… заплакал, совершенно забыв о двухстах процентах, которые теперь не радовали. Теперь его с цехом уже не связывали единой веревочкой те десятки лет, что он проработал в нем, а только чуть-чуть, слабой ниточкой, соединял с ним пропуск, который тоже предстояло сдать.
Неожиданно Лукашин, еще не выйдя из того оцепенения, которое охватило его, как в тумане принялся складывать свой личный инструмент и свои личные приспособления в деревянный ящик, в какие обычно пакуют детали для транспортировки потребителям, а потом, словно по наитию свыше, понес его на крышу цеха. Он не спрашивал себя: хорошо делает, или плохо. В каждом его инструменте, шаблоне, приспособлении его ум, его душа, его личный опыт. Это — часть его секрета, его тайна, и он знал, что эту часть секрета можно легко раскрыть самым простым способом: снять чертежи и по ним изготовить копии. Однако это еще не весь секрет. То, что хранит ум Лукашина, измерению линеек и штангенциркулей не подвластно. Это в нем. Это его. И он никому этого не отдаст, как решил он не отдать и то, что при желании могут изготовить не спрашивая на то его разрешения. Именно поэтому Лукашин не хотел, чтобы его инструмент и приспособления достались кому-то другому, тому, кого поставят к станкам вместо него.
На крыше было прохладно. Пахло гарью и копотью. Гулял свежий, до костей пронизывающий ветер. Застучав в ознобе зубами, Лукашин пробирался по крыше, отыскивая глазами место, куда ему спрятать ящик. Может, под груду стекла? Это не пойдет. Стекло могут убрать не нынче-завтра, а вместе с ним выбросят и ящик. И вдруг он увидел пожарный щит, а рядом с ним — красную бочку, которая, на случай пожара, была заполнена песком почти наполовину. «Лучше места и не придумать», — обрадовался Лукашин и пожарной лопатой выгреб песок почти до самого дна и поставил туда свой ящик, аккуратно засыпал его песком и забросал сверху, как и было, окурками и прочим мусором, чтоб никому и в голову прийти не могло, что здесь, в этой бочке на крыше, может храниться чей-то ценный инструмент. «И только когда меня позовут, — думал Лукашин, — я приду и возьму».
С этими мыслями Андрей Павлович спустился вниз, вошел в цех, захватил в раздевалке чистую одежду, красную банку из-под аккумулятора электрокары, в которой у него с давних пор хранилась мыльная стружка с мочалкой и, продрогший, еще не согревшийся и усталый, медленно побрел в душ.
Торопиться ему было некуда. Впереди ожидала таинственная пора, которой он пока еще не знал, как распорядиться. Но, припомнив всех знакомых по цеху и заводу, кто свое уже отработал, он успокоился: все они, живут себе, можно сказать, припеваючи — ездят за город, ловят рыбу, собирают грибы, занимаются каким-либо побочным заработком. Чем я хуже? А может, зайти к Никанорову? Все же не чужой — земляки. А зачем к нему идти? Зачем мне беспокоиться о работе. Ведь у меня сейчас есть дело. Да еще какое! Как вспомню про реактор, аж дух захватывает. Борьба предстоит нелегкая. И я отдам все свои силы, чтоб не было в городе атомной станции. Мне терять нечего. Зато детям и внукам опасность будет, если мы останемся в стороне. А завод? Что завод? Он менее важен, чем атомная станция. И пусть я не буду работать. Ну и что? Слава богу, и так столько поработал, что на одного человека непрерывного стажа для двадцатипроцентной надбавки не только хватит, даже слишком. Сейчас не это главное. Не в этом основная задача дня. Сейчас главное, чтоб не допустить пуска атомной станции, ее дальнейшего строительства. Завтра, правильно предложил Вадим Никаноров, проведем совещание инициативной группы. Будем определять меры на случай тайного провоза реактора. Надо будет везде, где возможен вероятный провоз его, расставить надежные пикеты. В этом обещал свою помощь опять же сын Никанорова. Хороший парень, этот Вадим. Да и отец у него мужик стоящий. Но мы тоже не лыком шиты. Меня еще люди узнают. Мне терять нечего, кроме пенсии. Но все же, хотя я и пожил на свете немало, не в одном мне дело, пусть и остальные, такие, как сын Никанорова, мои внуки живут без страха, без боязни за свое будущее. Ради этого ничего не жалко. И даже самого себя. Когда Лукашин вышел из проходной, ему показалось, что по-прежнему было утро.
Читать дальше