[Есть такой облегченный (софт) вариант прочтения «Гармонии», который, по-моему, способствует успеху романа. Читатели переживают в нем заново свои собственные страдания (но это еще в порядке вещей, это только бахвальство) и от того успокаиваются, книга как бы делает их сильнее, ведь что бы там ни происходило , мы выжили. Мои читатели смотрят на меня более спокойно и радостно, чем мне хотелось (мечталось). Они как бы выковыряли из романа изюм, оставив в стороне все, что не вписывается в эту «спокойную» линию. То есть книга им это позволила.
Я знал, что многие будут читать роман буквально, один к одному, невзирая на то, что текст постоянно и самым беспардонным образом играет (работает) на грани вымысла и реальности. Но последствия того, что в книге появляется история , я не продумал, не учел, что это история не только семьи, но и страны. И упомянутая формула — «что бы там ни происходило» — слишком неоднозначна, важно знать, что именно происходило. По порядку, от недавнего к более давнему прошлому: из чего возник режим Кадара, из чего — 1956 год, из чего — эпоха Ракоши, какую роль мы играли в войне, в холокосте. Серьезного разговора об этом в романе нет. Это плохо. Но все это я когда-нибудь опишу еще более точно.
Я сижу в своей комнате: за стеной — нечто вроде воскресного семейного обеда с участием тестя, «взрослых» детей, но выйти к ним я не в состоянии, ну не могу я курсировать между двумя мирами. (Помню, «Производственный роман» я писал в конторе, по ходу дела поддерживая — пусть не на самом высоком профессиональном уровне — производственные разговоры…) До моего слуха доносятся непринужденные голоса, звонкий смех моей младшей — Жожо, приглушенное, мужское уже, бормотание Марцелла, как хорошо им сейчас, не наслушаешься, — а мне ковыряться тут в грязном белье их дедушки. Они мало общались с ним (кроме, может быть, моей старшей дочери Доры), боясь его и восхищаясь им на расстоянии; в качестве деда шедевра он из себя не сделал.
Наступит час, и им тоже придется плакать. Жожо, наверное, ничего не поймет. Я думаю об этом с каким-то детским презрением. Как о своем несчастном далеком племяннике, который, прочитав роман, не может никак успокоиться из-за оскорбительного, по его мнению, пассажа. Боль его совершенно реальна, и мне очень жаль его. Идиот, думаю я теперь, переживая свою беду, — стенаешь из-за какой-то сгнившей руки, когда у меня вон целый отец сгнил! (Я не хочу тебя обижать.)
Не переступаю ли я некую грань, которую переступать не следовало бы? Быть может, нельзя так уж полагаться на искренность? Ибо сейчас я делаю именно это. Бывает, наверное, когда в наших общих интересах — молчать? Это так, но кто может указать, где она, эта грань?
В «Прощальной симфонии» [12] «Прощальная симфония» — пьеса П. Эстерхази (1996), написанная в ходе работы над романом «Harmonia cælestis».
я писал: «Он просит сына, чтобы тот не бил, не пинал его, хотя признает его правоту. (…) Начинает, уснащая свои мольбы примерами из греческой мифологии, взывать к пониманию… Его доводы — чисто физические (мне больно, сынок)… И снова, суммируя аргументы, он не ссылается ни на заповедь о любви к ближнему, ни на обязанность чтить отца своего, ни на обычаи и приличия. Он просит, умоляет сына подумать о том, стоит ли умножать в мире боль. (Стоит ли умножать в мире боль?) Это все, чего он просит у сына. И еще глоток палинки».
Мне кажется, я вижу его, слышу, как он умоляет меня. Чтоб вас всех разорвало! Я привязан к мачте и готов слушать песни сирен. Перебор.]
Сердце едва не выпрыгивает у меня из груди: мне несут документы. Мы улыбаемся. Я кошмарен, все, что я сейчас делаю, настолько лживо, что это уже смешно. Я боюсь здесь буквально всего и всех, ощущение — будто провалился в кадаровскую эпоху, не оттого ли я по утрам ругаю всю эту гэбню, в то время как сам испытываю к ним чрезмерную, ничем не оправданную благодарность? Разгадка в страхе (скелет в шкафу!), отсюда — компенсаторный гнев, ненависть и заискивание: короче, я обнаруживаю в себе все признаки посткоммунистического общества. Не знаю, если бы мне пришлось сейчас действовать реально и «жизнеподобно» (а не переписывать, помалкивая в тряпочку, эти бумаги), едва ли я мог бы оставаться нормальным, быть гражданином, человеком с достоинством и правами (в частности, на ознакомление с документами), проявлять благоразумие (а не поливать гэбэшников, что полная глупость)!
М. словно бы наблюдает, как я поведу себя в этой ситуации. Точно так же мы наблюдали в детстве за мухой, щелчком запендюрив ее в паутину. (Ну это, пожалуй, я приукрасил.) Возможно, он просто любитель литературы. А может, он вовсе не наблюдает, и это всего лишь моя истерика.
Читать дальше

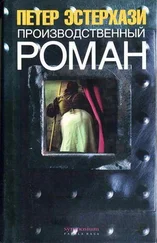
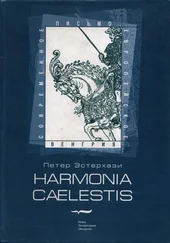

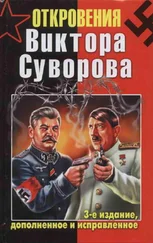

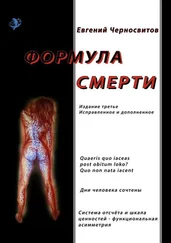
![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)



