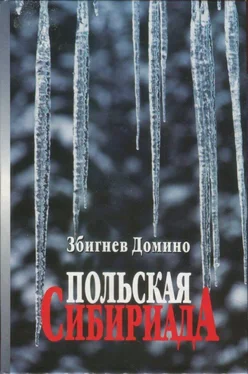Все с нетерпением ждали воскресенья. В этот день был выходной. Завтрак выдавали немного позже, можно было чуть-чуть дольше поспать. А если сон не шел, так хоть полежать на нарах, попытаться на мгновение обо всем забыть, полентяйничать. А может, и помечтать. Хлеб выдавали в субботу вечером на два дня сразу. Кто сумел пересилить голод, у того на воскресенье оставалось побольше хлеба. Обед приносили в барак и ели в семейном кругу. В воскресенье ходили в баню, стирали, сушили, латали все больше рвущуюся на работе одежду, чинили как могли разваливающиеся размокшие сапоги, давили вшей и выкуривали клопов. После обеда шатались по баракам, навещали старых и новых знакомых, обменивались слухами и новостями.
По воскресеньям же, причем все чаще, ходили на похороны, хоронили в вечной мерзлоте сибирской земли своих покойных. Если смерть приходила к кому-то на неделе, его сосновый, грубо отесанный гроб ждал до воскресенья.
— Работа есть работа. Норма должна быть выполнена. А покойному и так ведь спешить некуда, — неизбежно решал комендант и отказывал в похоронах в рабочий день.
Хоронили умерших на краю тайги, на высоком, поросшем старыми соснами берегу Поймы. Из-под глубокого снега торчало несколько сосновых столбиков с выжженными крупными номерами. Это были могилы с номерами умерших в Калючем заключенных. Одни номера, без имени и даты смерти.
Первыми поляками, похороненными на кладбище в Калючем, стали две замерзшие девочки, Кулябинская и Чуляк, пожилая женщина из Львова, умершая на последнем этапе зимнего пути из Канска в Калючее, и девушка из Черткова, которую прибила падающая сосна.
Теперь, с приближением весны, все реже случались воскресенья, когда на кладбище не появлялся очередной католический крест. В ту первую зиму умирали в основном старые больные люди. Умирали, лишенные необходимой врачебной помощи, истощенные голодом и холодом. Из-за недоедания, отсутствия молока и витаминов, от холода, паразитов и грязи заболевали всевозможными болезнями и гасли, как свечки на ветру, грудные дети.
Гробы ссыльные сколачивали из необработанных сосновых досок, которые им самим приходилось нарезать на пилораме. Кресты ставили березовые. А на дощечках, прибитых к крестам, выжигали имя, дату смерти и просьбу о молитве. Труднее всего было выкопать могилу. Даже специально разложенный костер слабо помогал оттаять твердую, как камень, землю. Вечную сибирскую мерзлоту приходилось сантиметр за сантиметром, ком за комом вырубать топором. А могила должна быть глубокой, и не только как того требует традиция, но и для того, чтобы оголодавший лесной зверь не нарушил покоя усопшего.
На первые похороны приходило почти все Калючее. Ксендза среди ссыльных не было, поэтому они сами, как помнили и могли, отправляли христианскую службу. Бросали комок земли на крышку гроба, читали литанию и пели «Вечный покой». А когда кто-нибудь запевал: «Твоей опеке, Отец небесный, чада твои вверяют судьбу», никто не мог сдержаться. Плакали все: над усопшим и над своей каторжной долей.
Комендант Савин не разрешал, правда, хоронить в будние дни, но не запрещал ставить кресты, не мешал полякам в погребальных обрядах. И только его заместитель, опер Барабанов, неусыпно бдел за всем и за всеми.
Вскоре после приезда заболела Рашель Бялер, простыла еще в поезде. Кашляла, теряла сознание от высокой температуры. Циня каждое утро выходила с бригадой в тайгу. Бялер как специалист и мастер на все руки с рассвета до заката трудился в лагерных мастерских. С больной матерью оставался самый младший в семье, Гершель. Бялер где только не искал возможность помочь жене. Пошел в лазарет к фельдшеру, настоящего врача в Калючем не было. Фельдшера, невысокого полного мужчину в очках, поминутно сползавших ему на фиолетовый нос, звали Тартаковский, жил он когда-то в Ленинграде, а в Калючее попал осужденный за какие-то троцкистские преступления против советской власти. В Калючем отбывал ссылку как «враг народа», без права возвращения в Ленинград.
Тартаковский был евреем. Когда Бялер вошел в его закуток в санитарном бараке, Тартаковский сидел за столом и хлебал чай, для крепости разбавленный спиртом. Увидев Бялера, опустил очки на нос, внимательно осмотрел и спросил:
— Амху?
— Амху. Ну, жид я.
— Ну, и чего тебе, еврею, надо?
— Еврею? — Бялер плохо понимал по-русски.
— «Еврей» по-русски как раз и значит «жид». Так что теперь ты уже не жид. Понимаешь?
Читать дальше