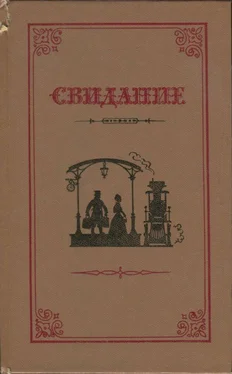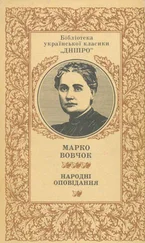— Вот вам и мое смирение! Видите, как они мирятся! Благодарю вас, Катерина Петровна, и вас, Эраст Сергеич… Я была уверена, что по благородству вашей души вы меня не покинете, и если сестрице угодно было оклеветать меня… Но господь видит: я не виновата, что меня так отвергают…
— Vraiment cela n’a pas de nom, cette mechancete [115] Воистину такая злоба не имеет названия (франц.) .
, и что за невежество, — проговорила Катерина Петровна. — Пойдемте, Анна Ильинишна, успокойтесь.
Анна Ильинишна, все закрывая глаза платком, позволила вывести себя из церкви. Овчаров надевал перчатки.
— До свидания, Катерина Петровна, — сказал он… Он хотел идти домой.
— Как, вы не с нами? О, нет, нет! Пойдемте, я хочу вас видеть, пойдемте.
Овчаров взял ее под руку. Он шел охотно и неохотно. Собственная его фигура между Катериной Петровной и Анной Ильинишной казалась ему немного смешна. К тому же Анна Ильинишна плачущим голосом рассыпалась в преданности к Катерине Петровне и к нему, Овчарову. Но прелесть «истории» (он давно был лишен этих спектаклей) привлекала его. А главное — ему хотелось видеть Оленьку, быть может, объяснить ей…
Оленька с матерью шли впереди его, шагах в тридцати по выгону.
Она была взбешена, слезы выступали у нее на глазах, она задыхалась.
— Это ни на что не похоже! Это — срам, — говорила она, — хоть не гляди на свет божий, всякий встречный хохочет.
— Оленька, я ничего не понимаю. Зачем она это сделала? И я ей ничего не успела сказать, а ты меня уводишь… Она хотела помириться… Вот она идет с Катериной Петровной. Я к ней пойду…
— И не смейте! — закричала Оленька. — Мириться! Да она вас осрамила, перед всеми знакомыми осрамила! Теперь слывете злодейкой! Ангел какой! Лицемерка! Кто же ей мешал мириться дома? Нет — бух в ноги, чтоб все любовались! Господи, это — хоть не живи на свете!
— Да что же? Ведь, должно быть, твоя правда, Оленька, — сказала Настасья Ивановна, вдруг оживясь и вспыхнув. Она даже приостановилась. Собственное чувство, не сознанное в минуту катастрофы, вдруг выяснилось и закипело. — Я — дура! Твоя правда. Если б она по душе, точно по душе… Я бы ее, видит бог, поцеловала, а то — сама суюсь, а самой противно, ну, вот точно будто — господи, прости мое согрешение! — не попутал же меня окаянный.
— То-то, что моя правда. И они все — нечего сказать! Вон не угодно ли полюбоваться. Ведут, как святую какую. И ваш Эраст Сергеич ведет на своих козьих ножках.
Она повернула мать за плечо.
Точно, Анна Ильинишна и ее ассистенты, обойдя мать и дочь более короткой дорогой, уже подходили к крыльцу дома.
— Видите! Погодите, вас еще будут бранить.
— За что? Нет, покорно благодарю, я не дамся.
— Увидим… Храбрая какая! Это — что?.. Эраст Сергеич хочет улизнуть!..
Овчаров в самом деле, проводя дам, сделал шаг назад. Ему опять показалось как-то неловко войти.
— Нет, уж я тебя не выпущу! — вскричала Оленька и бегом пустилась к нему.
— Эраст Сергеич, — сказала она, — пирог на столе. Так званые гости не делают. Войдите.
— Благодарю вас, — сказал Овчаров и вошел.
Он был немножко в недоумении. «Мировая это, что ли? — думал он. — Ясно, что она не пожаловалась ни матери, ни Катерине Петровне. Должно быть, мировая. — Он улыбнулся. — О, женская добродетель! Было из чего прикидываться!»
Он молча вошел в залу, поглядывая на Оленьку. Та молчала тоже. У нее было ужасно лукавое лицо.
Настасья Ивановна скоро догнала их. Бедная, совсем запыхавшись, сердитая, потому что Катерина Петровна прошла в комнату Анны Ильинишны и они затворились, обрадованная, что Эраст Сергеевич не сердит, если пришел, и сбитая с толку, почему же он не сердит. К счастью, закуска уже была готова на столе.
— Покушайте, батюшка, — сказала она и, совсем забыв приемы благовоспитанной хозяйки, не посадив гостя, не перемолвив более слова, в волнении воткнула вилку в дымящийся пирог и поскорее начала его «рушить».
— Я не ем, благодарю вас, — сказал Овчаров, стоя со шляпой.
— Ах, ведь надо прежде чаю!
— Дайте мне пирога, маменька, — сказала Оленька и, положив себе кусок, принялась есть молча. У нее тоже дрожали руки.
В комнате было тихо и как-то все неловко, не у места. Настасья Ивановна зачем-то отодвинула графин, а колбасу совсем стащила на другой столик.
— Так это все, — произнесла она, заметив наконец, что делала, — не по-праздничному у меня… Я не ожидала. Господь знает, что это такое.
«Глупость — вот что, — подумал Овчаров. — Всенародное покаяние! Но ведь это — прелесть!..»
Читать дальше