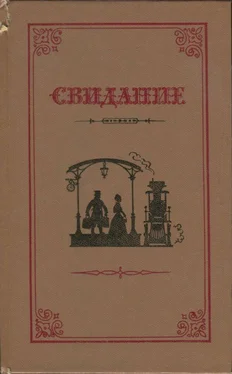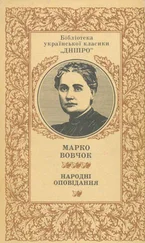— Должно быть, так. В воскресенье, к обедне. Платье велела готовить Палашке. Так и сказала: приготовь мне к обедне.
— Ах, господи владыко, вразуми ее! — воскликнула, крестясь, Настасья Ивановна.
— Да вы, барыня, погодите радоваться.
— Что же еще?
— Да господь ее знает… Она каким-то не своим голосом приказывала. Что-то у нее есть на уме.
— Как не своим голосом?
— Так, в сторону как-то. Исподлобья и усмехаючись. Даже девчонке показалось странно. И приказывала, чтобы вы не узнали, как можно потихоньку. Та — приди и нам рассказала.
— Этой дуре я не знаю что кажется! Сестрица просто хочет помириться.
— Ну, как вам угодно, барыня. А она что-нибудь свое смекает. Еще спросила: много ли господ бывает в приходе у обедни или из города ваших знакомых.
— Ну?
— Ну, Палашка сказала, что много.
— Я нынешний раз никого из города не жду и не зову, — сказала Настасья Ивановна, — ни даже братца Павла Ефимыча… Куда с такими историями!.. Что же сестрица сказала?
— Анна Ильинишна взяла платье назад и достала другое, похуже — черное, крашеное, которое в будни носит.
— Но все-таки сказала: приготовь?
— Да, приготовь.
Настасья Ивановна задумалась.
— Это — как уж вы рассудите, барыня.
— Что рассуждать! — сказала Настасья Ивановна спокойно, хотя радость почему-то с нее сошла. — Сестрица — женщина скромная, может, не любит становиться с публикой впереди, у амвона… Да в деревне какие наряды! Если кто увидит — с нашего брата, старой бабы, не взыщут…
Уяснив себе дело, Настасья Ивановна развеселилась. С этой минуты и голова ее стала яснее. Она приступила с Аксиньей Михайловной к обзору хозяйственных приготовлений для праздника, на случай гостей, о которых среди своих печалей чуть совсем не забыла. Она перестала толковать об Оленьке, сообразив сама (потому что Овчаров не сказал ничего), что Оленька, верно, приедет к обедне с Катериной Петровной. До тех пор недалеко. А там сестрица — господь внуши ей! — помолясь, выйдет в гостиную… И хоть что-нибудь да пойдет на прежний лад.
И Настасье Ивановне вдруг до того захотелось этого ладу, что она подошла к запертой двери с намерением разболтать все, что услышала от Аксиньи Михайловны. Но потом она одумалась.
«Как-нибудь еще раздражишь, — рассудила она, — потерплю. Теперь недолго».
В ту ночь Настасья Ивановна немножко заснула. Много было нельзя: мешала печаль от Эраста Сергеевича.
Эраст Сергеевич между тем и не думал, что производит печали. Как человек, хорошо понимающий вещи, он рассудил, что разница убеждений нисколько не мешает ему пить сыворотку у господ Чулковых, когда за эту сыворотку заплачено. Он гулял и купался, а в антрактах писал статьи для народа. Расположение его духа было нехорошо. В Березовке все не ладилось. Там упрямо не хотели принять его условий и, что хуже всего, понять Эраста Сергеевича. Он выходил из себя. В тот вечер, когда Настасья Ивановна успокоилась, Овчаров схватил перо и принялся за статью, которая начиналась так:
«Избаловали мы наш народец — не хвалите его. Нет, это — народ поконченный. Не учите его — не заслуживает. И ничему не выучите. Надо стать с ним лицом к лицу, как я стою, чтобы понять всю великость жертв, которые мы приносим, и, увидав, послать к черту свои благородные начинания».
Но статья на этом и осталась. Овчаров подумал, что хотя это и цензурно, но не в том духе, в каком принято говорить между людьми, заправляющими нашими журналами. Он изорвал свой лист и лег спать.
Спалось ему плохо. Глупые мысли его одолевали. Овчаров злился, зачем они глупы, и сон отлетал совсем. В том числе ему входили в голову самые мизерные вещи, например, вроде Настасьи Ивановны… Настасья Ивановна, кажется, имеет свое мнение… Настасья Ивановна не довольно проникнулась его мнением… Она испугалась, но этого влияния слишком мало. Неужели и здесь необходим усиленный труд, и кому же? — ему, Овчарову.
Утром, совсем на удивление лакея, он спросил его раза два, не приехала ли Ольга Николавна…
Рано утром в воскресенье Оленька ехала вдвоем с Катериной Петровной домой, к обедне.
Катерина Петровна, захватив все пространство в коляске и прижав свою спутницу в угол, дремала. Голова ее покоилась на плече Оленьки, так что ей нельзя было шевельнуться. Оленьке не дремалось. Ей было неловко; кроме того, ей было скучно.
Оленька возвратилась домой в сильном затруднении и недовольная собой. Она не ожидала, что так глупо поведет дела свои, с которыми она, такая храбрая, такая решительная, воображала покончить разом, как заблагорассудится.
Читать дальше