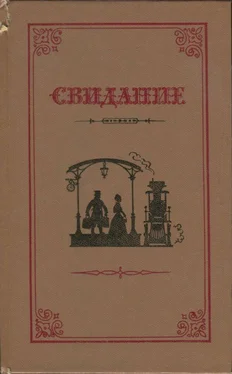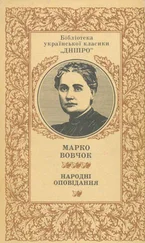— Куда вам! Я посильнее вас. Хотите, лучше я вас донесу, — сказала она однажды с своею грубой откровенностью.
Но большею частью на все заботы Овчарова у нее был легкий смех без слов, который со стороны мог казаться глуповатым.
Раз Овчаров не выдержал, несмотря на всю свою европейскую учтивость.
— Что это вы все смеетесь, Ольга Николаева? — сказал он.
Она не отвечала, а только расхохоталась.
Вслед за этим и за отвергнутыми учтивостями начиналось другое расположение духа. Овчаров принимался много говорить, и большею частью серьезно. Он говорил о прелести доверчивости и покорности в женщине, о женском труде, о том, как высоко ценит дух хозяйственности и экономии в немках, об очаровательности восточных женщин, о рабстве, которое налагают на себя русские женщины, о застое деревенской жизни и о гнили петербургских гостиных. Оленька слушала, и нельзя сказать, чтобы внимательно. Ее не развлекала и природа; на снетковские окрестности она нагляделась давно и вообще не понимала, что во всем «этом», то есть в лесах, лугах и прочем, можно находить хорошего. Заметив невнимание, которое выражалось тем, что Оленька поглядывала и на глаза, и на бороду Овчарова, сильно шевелившуюся от жаркой лекции, — Овчаров опять принимался за угождения.
— Когда же вы зайдете ко мне? — спросил он однажды, когда они дошли до его крыльца.
— Я вам сказала. Если б я еще спросилась у мамаши — ну, тогда бы как-нибудь.
— Спросились… Вы очень любите вашу мамашу?
— Еще бы!
— Так-с. Ну, а когда же офицерик приедет? И вы много с ним гуляете… то есть спросись мамаши?
— Какой офицерик? Ах, я об нем уж и забыла. Он сюда не ездит… Но какой же вы, Эраст Сергеич, ах, какой вы!..
Она остановилась, покачала головой и вдруг громко захохотала.
— Что с вами, Ольга Николавна?
— Так… у вас семь пятниц на одной неделе!
— Что?..
Но на свое «что», оставшееся без ответа, Овчаров вопроса не возобновил. Он только нетерпеливо снял фуражку, как человек, достигший желаемой пристани, вынул ключ из кармана и отворил свою дверь.
— Когда же наконец вы будете что-нибудь читать, Ольга Николавна? — спросил он, стоя на своем пороге. — Этак мы далеко не пойдем.
— Ах, господи! — вскричала она, смеясь. — Давайте — ну, и буду.
— Возьмите же мои заметки о женщинах. Займитесь, вникните.
— Давайте; кто вам мешает?
Овчаров безмолвно вошел к себе и так же безмолвно вынес портфель.
— Все это читать, Эраст Сергеич?
— Хоть все, хоть ничего — как хотите! Разве я навязываю?
Оленька засмеялась.
— Ну, прочту, — сказала она. — Вы не сердитесь. И маменьке прочту. До свидания.
На первый раз Овчарову, как писателю, не очень посчастливилось пред снетковской публикой. Оленька прибежала к себе и, сразу не разглядев, что в гостиной не одна ее мать, а также и Анна Ильинишна, от которой она по какому-то капризу, как от коршуна, охраняла Овчарова, — Оленька разлетелась с восклицанием:
— Должно быть, он тут каких-нибудь чудес о нас настрочил, если все сует в руки.
Мать перебирала белье, нахлопотавшись по хозяйству и озабоченная; у нее были дела. Но это не помешало ей сильно полюбопытствовать, что такое написал Эраст Сергеевич.
— Я буду лишняя, — сказала Анна Ильинишна, вставая.
Оленька хотела моргнуть матери, что «да» и пусть себе уходит, но Настасья Ивановна уже кинулась к Анне Ильинишне.
— Ах, нет, сделайте милость, сестрица, не уходите… Уж и так у нас все не по-родственному; авось Эраст Сергеич нам внушит. Не уходите. Прочти, Оленька, прочти.
Анна Ильинишна села. Настасья Ивановна уставила глаза на Оленьку. И первая, и вторая статья были прочтены. Через полчаса, когда она кончила, Настасья Ивановна поняла о патоке.
— Я патоки не покупала, — сказала она, опечаленная чуть не до слез и качая головой. — Как это Эрасту Сергеичу померещилось, право… А все же он — предобрый.
— Чудо какой добрый! — подхватила Оленька, хотя была крепко сердита сама. — Я в его мазанье ничего не понимаю, а все — добрый.
— Да… И отлично он вас тут третирует, — заметила тихо Анна Ильинишна, не глядя на портфель, но указывая на него спицей.
— И ханжей помянул, — возразила Оленька, вздернув носик.
— Это ни до кого здесь не касается, — сказала Анна Ильинишна, будто не заметя, — в ханжестве ли, в христианском ли благочестии безбожник — не судья. А что он — безбожник, то по-моему и оказалось… Что-с, Настасья Ивановна? И еще хвалится своим неверием, написал. Слышали?
Читать дальше