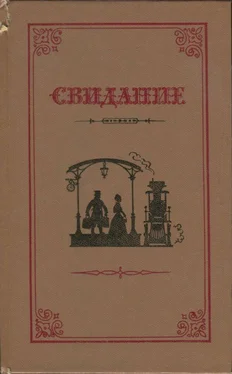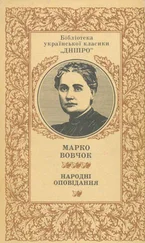— Сплетню, видно, любите, Ольга Николавна?
— Люблю. Ну, что же?
— Ничего. Дело — женское, безгрешное.
— И очень люблю. Слушать — всегда слушаю, а сама никогда не сочиняю. На другой день повезли мы тетеньку к обедне в собор. Вот умилялась-то она! А на публику все-таки глазела… После обедни — гляжу — летит моя тетенька вперед, к архиерею. И кулаками работает, и квартальному кричит: «Проводи, я — такая-то…» Срам просто. Однако подлетела, и тут — в разговоры, и чуть не в слезы… Я не знала, куда деваться… Удивляюсь, как он-то мог говорить с такой дурой…
— Я вас остановлю, — вдруг сказал Овчаров серьезно и положив ей руку на руку. — Вы извините. Я вижу вас в другой раз, и в другой раз вы довольно легкомысленно трактуете о духовных особах. Разве это хорошо? Что можно мне, например, человеку взрослому и других понятий, скажу прямо — человеку неверующему, то не приходится женщине. Наше дело — разум и осуждение, а ваше — смиренная вера. Это нейдет к женщине. У вас нет уважения к представителям вашей веры…
— И бог знает, что вы говорите! — вскричала озадаченная Оленька. — Какого у меня нет уважения? Что такое вам можно, а нам нельзя? Я вас не понимаю.
— Не хитрите. Вы самолюбивы и обиделись. А я говорю правду. И еще скажу, хоть вы сердитесь, не сердитесь — вы — ригористка. Тетенька ваша имеет слабости: ну, любит духовных особ, ну, там, нервозна и прочее. Надо объяснять себе эти вещи воспитанием, положением, и всякую вещь надо объяснять себе. Надо подходить осторожно ко всякой личности, многое прощать. Вообще, надо щадить чужие слабости, чтобы и нас щадили…
— Эраст Сергеич, — сказала Оленька, выслушав внимательно, и засмеялась, — вы сейчас что-то другое говорили… недавно… Вас, верно, муха укусила. Признавайтесь. Вы рассердились с тех пор, как я помянула о любви тетеньки? Так, что ли?
Овчаров сконфузился.
— Вы — дитя, — сказал он, скрывая досаду поцелуем на ее руке. — Вы мало вообще понимаете, а самую себя еще меньше. Да и вникать ни во что не хотите. Молодость, лень. Я и сам, как педант учитель, коснулся серьезных вопросов не вовремя… Лучше скажите, что еще тетенька? Что еще было в городе?
— Тетенька! Извольте ее защищать — не угодно ли? После обедни она тут же, на паперти, сделала мне сцену.
— Как сцену?
— Да за одного человечка! Ай, что я сказала!..
Оленька вскочила, закрывая лицо. Она зарумянилась, как ее платье.
— Нет, нет, Ольга Николавна! Этого я уже не пропущу! Вы должны сказать: кто и что, — вскричал Овчаров, удерживая девушку.
— И ничего особенного, — отвечала Оленька, немного презрительно взглянув на его худую и бледную фигуру с протянутыми руками, — я влюблена в одного гренадерского офицера, и он в меня влюблен. Он подошел ко мне на паперти, а тетенька накинулась.
— И небось — красавчик, с усиками, в кудрях? — спросил Овчаров, усевшись опять и покачивая ногою.
— Что вы подтруниваете? Ну да — красавчик. Еще бы я стала смотреть на всякого дурного!
Овчаров помолчал.
— Вы — славное дитя, Ольга Николавна, — сказал он через минуту, — веселитесь, резвитесь, влюбляйтесь. Вы не знаете, как со стороны отрадно смотреть на это человеку пожившему, симпатизирующему молодости. Вот я на вас гляжу и, уверяю вас, здоровею.
— Будто бы? Очень рада, Эраст Сергеич.
— И ведь знаю, — продолжал он, прищурясь и грациозно грозя ей пальцем, — знаю, кокетка, что это все непрочно, что завтра другой офицерик поправится, послезавтра третий.
— Ну, да; ну, может быть…
— Это-то и мило; вы не отвертывайтесь, не краснейте; это-то и прелесть, — вскричал Овчаров. — Покуда… покуда, — договорил он уже очень серьезно, — ум и страсть вступят в свои права и укажут вам на настоящего человека — не куклу… человека, в самом деле стоящего и чувства, и жертвы.
Говоря это, он так изящно и вместе с таким скромным достоинством откинулся на спинку стула, что Оленька немного присмирела. Ей стало неловко. Эраст Сергеевич в самом деле показался ей таким «заграничным», таким «неровнею» ей… До сих пор это не входило ей в голову. Она молчала и даже хотела уйти.
— А нам, старикам, — продолжал Овчаров, заметив, какое произвел впечатление, — нам — только любоваться из наших рабочих углов, давать посильные советы, писать для вас книжки. Вот наша доля.
— А вы много пишете? — спросила Оленька, вдруг подумав, что глупо было вести до сих пор все глупые разговоры.
— Нет, немного. Я уж вам сказал. Я — писатель не слишком плодовитый. Хорошее-то нелегко удается, Ольга Николавна. Труд и труд… впрочем, для меня… А я еще не спросил вас, где вы воспитывались?
Читать дальше