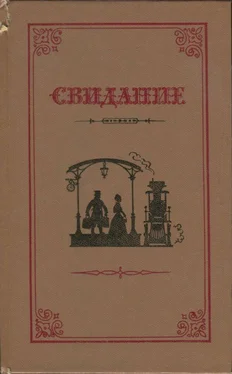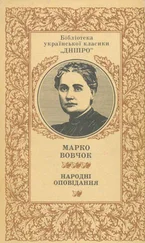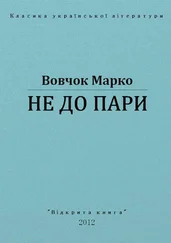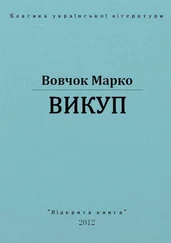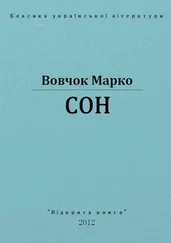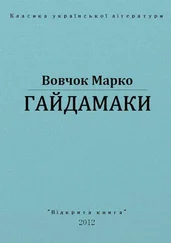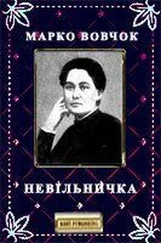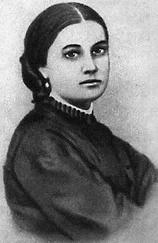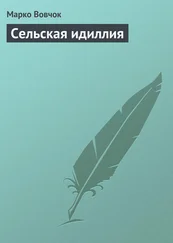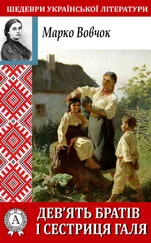Но родной ее уезд, а с ним и сама Настасья Ивановна, еще плохо двигались по пути прогресса, хотя были, как говорится, на слуху. Губернский город лежал от села Снетки не далее двадцати верст, на шоссе, — значит, не в захолустье. Настасья Ивановна часто езжала в город, где у нее были родные между мелкими служащими. Они вернее своих крупных начальников знали, что делается во всех присутственных местах, все новые распоряжения, все перемены в административном хозяйстве; как первые исполнители предписаний строжайших и нестрожайших, то есть гончие собаки дела, они раньше и чаще других заглядывали в темные закоулки, куда должны были низойти следствие, суд, приговор или вообще перемена быта; они вернее своих старших могли наблюдать, как новые радости и невзгоды, новые прибыли и убытки отзываются на крепко сложившейся сельской и городской жизни. Пред этими темными и бедными людьми не стеснялись ни домашняя радость, ни ругательство. И потому немудрено, что они знали и рассказывали множество анекдотов, то есть просто страниц, вырванных из живой жизни, — страниц, которые прячутся от глаз сановитого наблюдателя, которые иногда вернее могли бы раскрыть дело, чем тысячи исписанных листов канцелярской и всякой бумаги. Настасья Ивановна беспрестанно слышала такие анекдоты и сама в продолжение своей замужней, а потом вдовьей жизни давала повод к анекдотам, как владелица поместья, над которым в разные времена прошли и свои порядки, и невзгоды, тяжбы, ссоры с соседями, межевание, рекрутчина и ополчение, пожары, следствия со становыми, исправниками и мертвыми телами, урожаи и неурожаи и наконец, воля. Настасья Ивановна и сама знала и рассказывала множеств анекдотов. Но она принимала и передавала их как факт — не более. Она не углублялась в них, не извлекала оттуда никакого нравственного значения, то есть именно не делала той работы, которая, говорят, ведет человека к саморазвитию. Положительно, у этой женщины, представительницы одного древнего дворянского рода, еще не было пробуждено вникновение и желание анализа. Отец и мать ее тоже никогда не анализировали. Иван Терентьевич и Меланья Кузьминишна были в свое время землевладельцами, землепашцами и землелюбцами в полном смысле этого слова. Они родились и умерли, не побывав в губернском городе. Только раз оторвались они от снетковской почвы, это — совершив бегство от первого француза, на месяц, в другую губернию. Настасья Ивановна родилась и воспиталась на этой почве. Тут же она и вышла замуж и овдовела от своего Николая Демьяновича, помещика о десяти душах, избранного родителями, хозяина необыкновенного и человека души самой незлобивой в мире. Тут, после восьми преждевременно скончавшихся младенцев, после долгого ожидания родилась, выжила и выросла у Настасьи Ивановны дочка Оленька. Но Оленьке в прошлом году уже исполнилось семнадцать лет; значит, она подошла к нашему времени, то есть к поре лихорадочной, неусидчивой — не к такой, чтобы всю свою жизнь сидеть на одной снетковской почве. Настасья Ивановна видела, что такая пора пришла, хотя не обдумывала, почему она именно — такая, а инстинктивно, сколько могла, уследила за временем. Она расширила круг знакомства по соседству и стала очень часто ездить в город. Она даже нарочно за двадцать верст ездила с Оленькой в город, когда там по воскресеньям на бульваре играла музыка. Она наряжала свою Оленьку как куклу, выучила ее, чему могла, молилась за нее богу, любила своих родных и знакомых, соболезновала ближнему и думала, что этим все сказано.
А прошлым летом ей указали, что этим далеко не все сказано.
Прошлым летом у Настасьи Ивановны поселился гость.
Эраст Сергеевич Овчаров в тот год не ездил за границу на воды, как привык это делать каждый год. Несмотря на то что московские медики нашли его ревматизм усилившимся, несмотря на приказание заграничных медиков, с которыми он вел переписку, воротиться на воды, Эраст Сергеевич не поехал. Он сказал, что ввиду хозяйственных реформ, как ни драгоценно здоровье, а было бы нелепо уходить из дому. Кроме того, у него было мало денег после зимы в Москве, а кредит… кредит, как известно, стал падать и во всей России. Овчаров решил, что пробудет лето в своей деревне. Чтобы не терять времени, драгоценного для здоровья, и, чем можно, воспользоваться в нашем отвратительном климате, Овчаров намеревался в деревне пить сыворотку. Его Березовка была всего в двух верстах от имения Настасьи Ивановны. Много лет не заглядывал он в свое поместье. Приехав, он нашел, что там нельзя жить. Господский дом давным-давно был продан на своз в город. У управляющего во флигельке и можно было бы поместиться, но не было покоя от полдюжины ребят. Можно было нанять избу, но мужики, хотя исстари жившие в довольстве, были прескверно обстроены. Овчаров подумал, что близкое соседство телят, коров и прочих домашних животных, может быть, было бы полезно для его слабой груди, но против этой мысли восставала его чистоплотность. Наконец, он не знал, что ему делать. Первую ночь он переночевал в своей венской коляске; но мелкий дождь и холод, пробравший его на заре (это было в начале мая), повергли его в ужас: он вспомнил о ревматизме. Встав поутру, хотя уже и заблестело прелестное вешнее солнце, он надел фланель и косматое пальто с твердым намерением уехать в губернский город и пожаловаться там, сколько кому будет можно, что вина судьбы, а не его, если он не выполнил решительного желания принять участие в начинающихся реформах. Но вдруг все изменилось. Покуда его человек хлопотал о лошадях, а жена управляющего о курином бульоне для завтрака, Овчаров пошел гулять. После ночной дрожи было необходимо движение и согревание на солнце. Не прошло полчаса, как Овчаров уже миновал березовский выгон, а за ним небольшую лощинку, в которую спускалась проселочная дорога. Эта дорога в трех верстах далее впадала в старую большую дорогу, перерезанную почти в этом самом месте губернским шоссе. Пройдя поперек лощинку, путник был уже не в своих владениях. Тут начинались Снетки. Их ржи тянулись вверх по небольшому холму, на котором, пробежав с версту, проселок входил уже в снетковский лесок и заворачивал за гумны усадеб.
Читать дальше